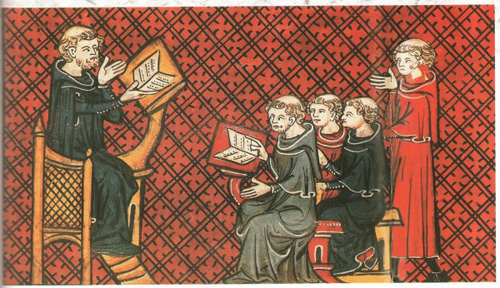
XVI–XVII вв. можно считать третьим – после эпохи Карла Великого и Возрожде-ния – периодом повышенного интереса к проблемам воспитания и образования в западноевропейской истории. Интерес этот был вызван факторами не только экономического и социального, но и религиозного характера. Значительная часть педагогических инициатив первой половины XVI в. исходила из протестантской среды. Активизация деятельности католической Церкви на ниве образования была органически связана с контрреформацией и католической реформой – двуединым процессом, нацеленным не столько на противостояние протестантизму, сколько на адаптацию Церкви к изменяющемуся миру, к возросшим духовным запросам верующих. Тридентский собор (1545-63), положивший начало католической реформе, зафиксировал в своих документах важность систематического образования и воспитания, хотя и ограничил внимание исключительно сферой образования духовенства. На XXIII сессии был утвержден декрет о создании диоцезиальных семинарий, на которые возлагалась обязанность профессиональной подготовки священнослужителей. 18 канон декрета (утвержден 15 июля 1563 г.) гласил: "Так как юноши, если не направить их на нужную дорогу, склонны поддаваться мирским иллюзиям; а если с ранних лет (пока злые привычки ими не овладеют) они не будут направлены к благочестию и набожности, то они никогда совершенным образом и без специальной благодати Божьей не сумеют выдержать в церковной дисциплине. Поэтому Святой Собор постановил, чтобы все кафедральные, митрополичьи и высшие рангом соборы в соответствии со своими материальными возможностями и размерами диоцезов содержали определенное число юношей (родом из этого города, диоцеза или данной церковной провинции) в коллегии, если таковая еще не создана, неподалеку от кафедрального собора или в ином подходящем месте, выбранном епископом, обучая их наукам, а также воспитывая в благодати"1.
С середины XVI в. и на протяжении почти всего XVII в. тон всей католической педагогике задавало Общество Иисуса – монашеский орден иезуитов, созданный в 1540 г. баскским дворянином Игнатием Лойолой (1491–1556). Проект Конституций (свода внутреннего законодательства) Общества 1541 г. не предусматривал деятельности иезуитов в сфере образования: Общество создавалось исключительно для миссионерской работы, и помимо трех традиционных монашеских обетов послушания, бедности и целомудрия, члены ордена были связаны специальным обетом послушания Апостольскому Престолу в вопросах миссий. Но для самих иезуитов, как считал Лойола, всестороннее образование было насущной необходимостью, поэтому первые дома (резиденции) ордена создавались при университетских центрах Европы – в Париже, Падуе, Лювене, Кёльне, Валенсии, Коимбре (1540-44 гг.). Они были лишь местом жительства для клириков, изучавших в этих университетах курс философии и теологии. Более поздние редакции Конституций предусматривали преподавание иезуитов только во внутренних учебных заведениях, предназначенных для самих собратьев. И лишь под давлением внешних обстоятельств, в самую последнюю очередь связанных с необходимостью противостоять протестантизму, педагогическая деятельность стала рассматриваться Обществом как одно из наиболее эффективных средств апостольства, потому что именно "воспитание молодежи, – как заме-тил в 1576 г. один из первых теоретиков педагогики иезуитов Жуан Бонифацио (1538-1606), – в значительной степени способствует возрождению общества". Расширение сферы деятельности иезуитов отразилось и на внутренней структуре ордена: в 1546 г. Лойола получает разрешение папы Павла III на учреждение в Обществе степеней духовного и светского коадъюторов, которые не были связаны специальным обетом послушания папе в вопросах миссий2. Эта сфера деятельности ордена была позднее канонически санкционирована буллой Юлия III Exposcit Debitum от 21 июля 1550 г., которая подтверждала, что Общество призвано расширять и укреплять католическую веру в том числе и посредством школ.
Первый педагогический опыт
В 1543 г. Франциск Ксаверий (Ксавье) (1506-52), направленный Обществом для мис-сионерской работы в одну из португальских колоний в Индии, написал Игнатию Лойоле, что в начальной школе, основанной миссионерами в Гоа, не хватает учителей. Ксаверий испрашивал разрешения у генерала ордена, чтобы иезуиты временно заняли пустующие вакансии; а через 5-6 лет почти вся педагогическая нагрузка в этой школе перешла к иезу-итам. Опыт работы миссионеров в Гоа фактически положил начало педагогической дея-тельности всего Общества Иисуса.
Первым учебным заведением, куда иезуиты были приглашены для преподавания кур-сов философии и теологии, стал университет в Гандии, открытый по инициативе вице-короля Каталонии Франциска Борждиа (1510-72), который стал и первым его слушателем. Позднее он тайно вступил в члены ордена, а в 1565-72 гг. исполнял обязанности генерала. Университет вырос из открытой в 1545 г. коллегии для иезуитов, в которой год спустя был введен курс философии для светских слушателей; а в 1548 г. коллегия в Гандии полу-чила от Павла III статус университета. Первый университетский опыт иезуитов не имел принципиального значения ни с точки зрения выработки новых учебных планов, ни с точки зрения методик преподавания. Но он важен тем, что именно этот опыт побудил Лойолу пересмотреть и расширить сферы деятельности созданной им монашеской конгрегации. Общество не стало ограничиваться простой подготовкой квалифицированных педагогов, которые бы работали в уже существующих образовательных институциях, но приступило к созданию собственных учебных заведений. Игнатий Лойола считал, что коллектив хорошо подготовленных учителей, движимых общей идеей и объединенных сходными представлениями о путях и методах воспитания, способен действовать более эффективно, чем каждый из этих педагогов по отдельности. В 1548 г. Лойола, уступив просьбам вице-короля Сицилии, посла Испании в Риме и папы Павла III поручил одному из своих сподвижников – Иерониму Надалю (1507-74) создать в Мессине на Сицилии первое смешанное учебное заведение, предназначенное как для молодых членов ордена (схоластиков), так и для светских слушателей (экстернов). Сама идея смешанного учебного заведения, где бы получали образование и лица духовного звания, и миряне, бывшая достаточно новаторской в середине XVI в., принадлежала, вероятно, другому ближайшему сподвижнику Лойолы, второму генералу Общества испанцу Якову Лайнезу (1512-65). Учебный процесс в коллегии в Мессине регламентировался первоначально документом Книжица, где излагаются принципы обучения Мессинской коллегии (Libellus quo initia scholarum collegii Mes-sanensis annuntiantur, 1548). Для этой коллегии Надаль позднее разработал первую по-дробную школьную программу – О порядке обучения в Обществе (De Studiis Societatis, 1552), включавшую правила как для наставников, так и для учащихся; порядок распределения учеников по классам, рекомендуемую для чтения литературу; оговаривавшую необходимость письменных работ и диспутов. Латинский язык преподавался по одному из популярнейших средневековых учебников Ars grammatica античного грамматиста Доната (IV в.); читались сочинения Аристотеля, Евклида, Птолемея, фрагменты Фомы Аквинского; изучалась теория музыки. Опыт Надаля был использован иезуитом Иаковом Ледесмой (1519-75) в основанной первоначально на средства Фр.Борджиа, а позднее финансируемой Апостольским престолом Римской коллегии (Collegium Romanum, 1551 г.) – первом университете ордена (впоследствии переименован в Папский Григорианский университет – Pontifica Universitas Gregoriana) и лёг в основу первых разработок иезуитов в области теории и практики преподавания.
С начала 50-х гг. XVI в. деятельность в сфере образования уже является приоритет-ной для Общества. Иезуиты создают как собственные коллегии, так и занимают кафедры философии и теологии в уже существующих университетах. На первых порах главными инициаторами создания и спонсорами их учебных заведений были представители свет-ской власти. По просьбе баварского герцога Вильгельма IV в 1549 г. иезуиты обосновы-ваются при университете в г. Ингольштадт; Фердинанд I Габсбург в 1551 г. выделяет средства для иезуитской коллегии в Вене, предназначенной первоначально для подготов-ки священнослужителей; Генрих IV Бурбон был инициатором создания в 1604 г. самой большой школы иезуитов во Франции Ла-Флешь. Позднее иезуиты начинают получать материальную поддержку от отдельных епископских кафедр и состоятельных светских патронов. При жизни Игнатия Лойолы функционировали уже 33 коллегии. К 1586 г. Об-щество располагало 162 коллегиями, 147 из них были открыты для экстернов.
Пик роста числа учебных заведений пришелся на время генерала Клавдия Аквавивы (1581-1615). Общество практически монополизировало сферу среднего образования во всей романской южной Европе, уверенно проникло на германские земли и в страны Цен-тральной Европы. Динамичному распространению учебных заведений благоприятствова-ла полученная в 1571 г. от Пия V привилегия открывать коллегии даже в тех городах, где существовали университеты. Часто это приводило к конфликту между старыми центрами образования и школами иезуитов (Париж, Краков); но иногда способствовало их тесному сотрудничеству, как это случилось, например, в Вене, Праге, Ингольштадте. К столетнему юбилею своего существования иезуиты в 35 провинциях и 3-х вице-провинциях ордена имели около 520 коллегий, 49 семинарий и 54 новициата для молодых послушников. В Европе по численности учебных заведений лидировала Италия (116 коллегий); после нее – Пиренейский полуостров (104), земли немецких княжеств (83), Франция (79), Нидерланды (39) и Речь Посполитая (30). Вне Европы больше всего учебных заведений иезуиты имели в Ост-Индии (19 коллегий), Мексике (14), Перу (11), Парагвае (7).
Первые теоретические разработки в области педагогики
Теоретические и практические основы педагогической системы иезуитов были намечены еще Игнатием Лойолой в IV части Конституций ордена, которая затрагивает, хотя и схематично, широкий спектр вопросов: от структуры и материального обеспечения коллегий (разделы II, X и XVII) до учебных планов, учебников и способов преподавания отдельных дисциплин (V; XII; XV); несколько параграфов посвящено организации учебного процесса и программам публичных школ (VII). Второй по времени создания документ, регламентирующий педагогическую деятельность не в отдельно взятой коллегии, а в рамках всего Общества – Об изучении свободных искусств (De artium liberalium studiis) – содержал предписания лишь относительно программ преподавания в начальных классах коллегий и курсов философии. Профессора логики, философии природы, метафизики и медицины должны были неукоснительно придерживаться системы Аристотеля, но с учетом постановлений V Латеранского собора (1512-17), осудившего все философские утверждения античного мыслителя, противоречащие вере.
В 1581 г. IV Генеральная Конгрегация приняла решение унифицировать педагогиче-скую деятельность Общества и выработать единообразный план обучения для всех учеб-ных заведений. Для этой цели была создана комиссия из двенадцати человек, но ее работа не была результативной. Тремя годами спустя генерал Клавдий Аквавива возвращается к этой идее. Новая комиссия состояла из шести иезуитов разных национальностей (испанец Джуан Азор (1542–1607), португалец Гаспар Гонзалез (1540-90), голландец Питера Байс (1540-87), итальянец Стефано Туччи (1540-97), шотландец Джеймс Тюре (1543-97) и вы-ходец из Верхней Германии Антонио Гвизани), что позволяло в максимальной степени учесть нюансы педагогических традиций разных стран. Комиссия работала на протяжении девяти месяцев: ежедневно в течение трех часов профессора и теологи изучали новейшие педагогические сочинения того времени, а также опыт таких университетов, как Париж и Лювен, разбирали уже действующие школьные планы и присланные из отдельных коллегий практические рекомендации. В 1586 г. первая редакция документа, содержащая общие теоретические рассуждения о целях педагогической деятельности и путях их реализации, была разослана для обсуждения по провинциям Общества. В содержательном отношении главные возражения вызвало требование в курсе теологии безусловно следовать учению Фомы Аквинского. Самые резкие голоса протеста прозвучали из польской провинции, которые, однако, поддержки в Обществе не нашли. Поступившие из провинций замечания и рекомендации были изучены профессорами Римской коллегии и тремя представителями комиссии, назначенной Аквавивой, и в 1591 г. была выработана вторая редакция документа, более пространная и с более четкой структурой. Текст состоял из расположенных в иерархическом порядке "правил" для тех, кто связан с процессом обучения (от провинци-ала до схоластиков). В содержательном отношении нововведением редакции 1591 г. было выделение моральной философии (этики) в качестве самостоятельной учебной дисципли-ны, основу которой составляло изучение Никомаховой этики Аристотеля.
Вторая редакция также прошла многоступенчатую экспертизу в большинстве учеб-ных заведений Общества, была обсуждена в 1593–94 гг. на V Генеральной Конгрегации, и окончательная версия 1599 г. – Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu (План и организация школьного обучения Общества Иисуса) – стала обобщением почти полувекового педагогического опыта иезуитов. Ratio Studiorum окончательной редакции также состоял из "правил", которые распределялись по четырем большим разделам: I. Правила для провинциала; ректора, префекта по учебным делам и префекта по вопросам дисциплины; II. Правила для профессоров теологии: Св.Писания, иврита, догматической теологии, церковной истории, канонического права и моральной теологии; III. Правила для профессоров философии, физики и математики; IV. Правила для учителей начального отделения. По сравнению с предшествующей версией, были добавлены разделы, регламентирующие порядок проведения письменных экзаменов, организацию и порядок функционирования школьных кружков и сообществ; подробно излагались система поощрений и наград, а также требования к повседневному поведению как схоластиков, так и студентов-экстернов. В качестве общеобязательного нормативного документа для всех учебных заведений ордена Ratio Studiorum действовал до 1832 г., когда он был пересмотрен и приобрел лишь рекомендательный характер.
В содержательном отношении Ratio Studiorum не был новаторским. Можно заметить значительное сходство учебных планов и методик преподавания иезуитов и целого ряда учебных заведений конца XV – XVI вв. Речь, главным образом, идет о школах основанного еще в конце XIV в. религиозного братства иеронимитов – "Братьев Общинной жизни" (в первую очередь – о гимназиях в городах Льеж и Девентер); о страсбургской школе кальвиниста Иоганнеса Штурма (1507-89); основанной в 1548 г. Андре де Гове королевской гимназии в Коимбре (Португалия) и Парижском университете. Сходство в значительной степени объясняется тем, что и иезуиты первого поколения, и теоретики педагогики различных конфессиональных ориентаций получали в начале XVI в. образование в одних и тех же учебных заведениях, а позднее использовали ученический опыт в своей педагогической деятельности. По свидетельству друга и первого биографа Лойолы испанца Педро Рибаденейры (1526-1611), более пятидесяти иезуитов первого поколения учились в гимназиях иеронимитов. Среди них были, например, участник комиссии по составлению Ratio Studiorum голландец П.Бюйс; теолог и составитель самого популярного католического катехизиса XVI в., основатель первых коллегий Общества в Вене (1551) и Праге (1555) Петр Канизий (де Гондт) (1521–97); ректор кёльнской коллегии Леонард Кессел. В братской гимназии г. Люттих получил среднее образование Штурм; в г. Девентер у иеронимитов учились Рудольф Агрикола (1443-85) и Эразм Роттердамский (1469-1536). Последователи Игнатия Лойолы получали высшее образование в тех же колледжах Парижского университета, что и многие деятели педагогики XVI в.: в колледже Монтегю, реформированном в 1483 г. бывшим учеником иеронимитов Жаном Стендонком, учились Эразм Ротердамский и Жан Кальвин (1509-64); в 1528-34 гг. Игнатий Лойола (после неудачного опыта обучения в университетах Алкалы и Саламанки) посещал там классы латыни и поэтики вместе со своими первыми сподвижниками. В колледже св.Варвары лекции по философии и теологии посещали как будущие иезуиты, так и многие выдающиеся деятели протестантизма. Лойола был лично знаком с крупнейшим теоретиком гуманистической педагогики, учеником Эразма Роттердамского Хуаном Луисом Вивесом (1492-1540), с которым встречался в г. Брюгге весной 1529 г. Вивес в свое время также прошел школу Парижского университета, а потом бóльшую часть жизни провел в Нидерландах, где иеронимиты на протяжении всего XVI в. сохраняли господствующие позиции в сфере начального и среднего образования.
Гораздо важнее, что все эти учебные заведения, несмотря на все отличия целей, которые они перед собой ставили, имели общий источник заимствований, опирались на единую традицию. В понимании сути учебного процесса, методик преподавания и содержания учебных планов таким общим источником была гуманистическая педагогика, воспринявшая, в свою очередь, и творчески переработавшая наследие афинского оратора и публициста Исократа (436-338 до н.э.) и римского оратора и теоретика ораторского искусства Квинтилиана (ок.35 - ок.96).
Понятие "гуманизм" в его первоначальном, идущем от Исократа, значении, которое было воспринято мыслителями эпохи Возрождения через сочинения Цицерона (106-43 до н.э.), означало то, что присуще только человеку, что составляет отличительную черту его природы. И этим особым свойством считалось приобретение знаний (учение) и практикование добродетелей. Под влиянием ренессансного понимания гуманизма с середины XVI в. и в протестантской, и в католической педагогике начинает утверждаться представление о том, что образование позволяет человеку быть в полной мере человеком, а, следовательно, и в полной мере христианином. Гуманизм становится синонимом классической образованности, и если использовать это слово именно в этом значении, то правомерно говорить о гуманизме иезуитов. Сравнение проектов Конституций ордена (1541, 1544, 1547 гг.) позволяет констатировать, что со временем всё более отчетливо проговаривается положительное отношение к гуманитарному знанию.
Иезуиты взяли за основу преобладающую в ту эпоху модель чистой гуманистической школы, ориентированной на формальное образование, когда главное внимание уделяется не специализированной (профессиональной) подготовке, но развитию умственных способностей (т.н. efformatio ingenii – упражнение ума) или гармоничному развитию памяти, воображения, интеллекта и воли учащихся. От ренессансных гуманистов Общество переняло веру в познавательную и воспитательную ценность литературного текста, знакомящего с идеалами красоты и благородства. В обоих случаях главной целью обучения было развитие умственных способностей посредством изучения классических языков (в первую очередь – латыни и греческого) и классической литературы, риторики и философии. В соответствии с идущей от Исократа традицией, искусство красноречия – риторика – рассматривалось как высшее выражение культуры, как основа всеобъемлющего образования, источник универсального знания. Считалось, что красноречие учит не только правильному построению речей, но и логическому мышлению; формирует определенный стиль поведения, развивает такое важное социальное качество как навык коммуникации. В рамках этой же традиции математике и другим естественным наукам отводилось подчиненное положение, они низводились до уровня "гимнастики ума", готовящей его к риторическому творчеству.
Принципиальным отличием иезуитов от гуманистически ориентированной педагогики была побудительная причина, то, чем они были движимы, отдавая все свои силы именно этой сфере деятельности.
Работа иезуитов на педагогическом поприще изначально рассматривалась как форма апостольства: уча и воспитывая определенным образом, иезуит помогает вверенным его попечению ученикам достичь главной цели жизни любого христианина – спасения. Помогать душам верующих спасаться – в этом состоит главное предназначение как каждого отдельного иезуита, так и Общества в целом. Этой высшей цели подчинены все сферы деятельности ордена, поэтому в основе его служения на ниве просвещения – отнюдь не любовь к знанию как таковому (как это было у ренессансных гуманистов), но исключительно религиозная мотивация и осознание той пользы, какую учеба может принести для спасения христианина. Знание выступает исключительно как инструмент, служащий более высокой цели, что открыто декларировалось в письмах Игнатия Лойолы, а позднее нашло свое выражение в Конституциях Общества (IV,XII; IV,V,1) и в учебных планах иезуитских коллегий. Обоснованием подобного отношения к знанию была теологическая концепция благ высшего и низшего порядка (например, Фома Аквинский Сумма Теологии. II-II,145,1,ad.). К первым христианин призван стремиться ради них самих, ко вторым (и к ним относятся знания) – лишь в той мере, в какой они способствуют достижению благ высшего порядка. Исходя из такой логики рассуждения, учебный план должен включать лишь те предметы, которые могут быть необходимы и полезны для службы Богу и ближнему. Эта идея с бóльшей последовательностью проводилась во внутренних учебных заведениях Общества. Изучение классической литературы признавалось необходимым лишь потому, что знание языков, на которых она написана, помогает лучшему пониманию текстов Священного Писания, к тому же является хорошей умственной гимнастикой, готовящей ум к изучению философии и теологии. Риторика включалась в учебные планы потому, что искусное владение ее приемами способно помочь проповеднику быть максимально убедительным. Считалось, что изучение теологии также полезно не само по себе, но потому, что она есть средство достижения истинного знания о Боге и любви к нему. Из всех остальных учебных дисциплин предпочтение отдавалось тем, которые позволяют лучше подготовиться к изучению теологии.
В учебных планах коллегий, открытых для посещения и светским лицам, также соблюдался принцип инструментализма: при выборе учебных дисциплин акцент делался на их практической значимости. Например, проект Ratio Studiorum 1586 г. аргументировал введение математики и ряда естественнонаучных дисциплин именно их полезностью в повседневной жизни.
Столь утилитарное отношение иезуитов к знанию является практическим выражением фундаментального принципа духовности Общества, сформулированного Лойолой в максиме "любовь благоразумная" (caritas discreta): "Желать и выбирать всегда лишь то, что нам больше помогает в достижении цели, для которой мы сотворены". Исходя из этой максимы, например, иезуиты намеревались первоначально ограничить свои педагогические усилия исключительно сферой среднего образования, потому что именно в этой области отдача могла быть более быстрой, а результаты – более эффективными. Начальное образование рассматривалось Обществом как экономически неэффективное из-за отсутствия необходимых материальных средств и полной зависимости от пожертвований меценатов, поэтому подобные школы открывались иезуитами только в районах миссионерской деятельности. Общество также не могло посвятить себя исключительно высшему образованию, ввиду существования уже сложившейся разветвленной университетской сети в Европе и естественной конкуренции со стороны монашеских орденов доминиканцев и францисканцев, традиционно связанных со сферой высшего образования. Максима "любовь благоразумная" получила свое практическое выражение и в принципе адаптации, ставшим одним из ключевых в педагогической практике иезуитов. Допускалась не только корректировка учебных планов (при том, что ключевые их положения оставались едиными и незыблемыми), но, главным образом, самого процесса обучения с учетом специфики климатических условий, национальной культуры и местных традиций стран, в которых Общество открывало свои учебные заведения. Правда, после введения Ratio Studiorum 1599 г. учебные планы в значительной степени утратили региональный и национальный колорит, но и до настоящего времени иезуиты остаются верны принципу pro regionum, temporum, personarum varietate, зафиксированному еще в Конституциях ордена (IV,XIII,2).
Коллегии Общества
Основной формой учебного заведения в Обществе были коллегии. С точки зрения состава учащихся они подразделялись на 3 вида: смешанные для схоластиков и экстернов (Collegium mixtum), только для экстернов (Schola publica) и только для схоластиков (Collegium Nostrorum). Коллегия, возглавляемая ректором, состояла, как правило, из двух отделений: начального (studia inferiora) и высшего (studia superiora), руководимых префектами. Начальное отделение включало начальный, средний и высший классы грамматики (их иногда называли гимназией (gymnasium), хотя это понятие использовали и для обозначения классной комнаты), классы поэтики (т.н. гуманистики) и риторики, высшее – философии и теологии. Нововведением Общества было создание именно таких образовательных комплексов, сочетавших элементы среднего и высшего образования. В случае нехватки материальных средств и квалифицированных кадров, коллегии создавались в усеченном виде, и в зависимости от объема преподаваемых дисциплин сами иезуиты называли их малыми (только начальные классы грамматики), средними (включают классы поэтики и риторики) и большими (т.н. universalia, включавшими курс теологии).
Для поступления в коллегию ни социальный статус, ни материальное положение не имели, как правило, значения, хотя со временем возникла сеть учебных заведений исключительно для лиц знатного происхождения. Обучение в коллегиях иезуитов было бесплатным, хотя допускались разного рода добровольные взносы от родителей учеников. В отличие от большинства протестантских школ, существовавших главным образом на государственные средства, материальная база учебных заведений иезуитов до конца XVIII в. формировалась преимущественно за счет частных пожертвований, реже – за счет доходов от земельных пожалований, издательской и иного рода предпринимательской деятельности Общества. Бесплатная школа являлась гарантом постоянного притока учеников, делала среднее образование практически общедоступным. Для принятия иезуитами модели бесплатной школы огромное значение имел личный опыт основателя Общества и его первых последователей: учась в университетах Алкалы, Саламанки и Парижа, Игнатий Лойола существовал исключительно за счет собираемой им милостыни и редкой денежной помощи своих знакомых; не имея возможности полностью оплатить курс теологии, он осваивал ее азы с помощью друзей. Личный опыт первых иезуитов убедил их в том, что во время учебы ничто не должно отвлекать ученика от его главного занятия.
Для записи в коллегию требовалось, чтобы ребенка привели родители или опекуны, и он уже имел определенные элементарные навыки чтения и письма, а также минимум знаний латинской грамматики. В регистрационной книге коллегии фиксировалось его имя и фамилия, национальность, возраст, имя родителей или опекунов, адрес их проживания. Вступительный экзамен состоял из письменной работы (сочинение на предложенную тему), несложного перевода на латынь, устного объяснения небольшого литературного фрагмента. По результатам экзамена ученик зачислялся в класс, соответствующий его уровню знаний. В начале каждого учебного года также устраивался переходной экзамен, после чего студенты распределялись по классам в соответствии со способностями и уровнем успеваемости.
В ряде коллегий Общества сохранялся древний университетский обычай начинать учебный год церемонией Instauratio studiorum или Renovatio studiorum, когда в присутствии специально приглашенных гостей ученики выполняли различные упражнения, чтобы продемонстрировать свои знания и умения. Например, в Парижской коллегии в октябре 1579 г. учебный год был открыт торжественным диспутом между Философией и Теологией и представлением драмы Ирод. Осенний семестр начинался, как правило, в октябре, а весенний – сразу после Пасхи. Учебный год заканчивался 31 июля – в день памяти основателя Общества Игнатия Лойолы.
Продолжительность занятий в начальном и высшем отделениях была различной, а также зависела от времени года. Новшеством иезуитов был предусмотренный расписанием выходной день: на курсах философии и теологии для отдыха чаще всего отводился четверг; учащиеся начального отделения отдыхали один день в неделю полностью только летом, а в остальное время года – только после полудня. В каждой провинции перед началом учебного года с учетом местных традиций составлялся календарь праздничных дней, по которым занятия не проводились; если на одну неделю приходилось два праздника, то обычный выходной день отменялся. Продолжительность ежегодных каникул также определялась в зависимости от местных традиций. Студенты высшего отделения отдыхали, как правило, между Рождеством и праздником Обрезания (1 января) и с Вербного воскресенья до следующего воскресенья после Пасхи; ученики начального отделения – с кануна Рождества до праздника св. невинных младенцев (28 декабря) и со среды страстной недели до четверга пасхальной недели. Оба отделения не учились в канун Пепельной среды (начало Великого Поста), дня Пятидесятницы, праздников Тела Христа (2-й четверг после Пятидесятницы) и поминовения умерших (2 ноября).
Здания коллегий были просторными и светлыми; каждый класс имел для занятий собственное помещение. Класс делился на две равные, соперничавшие между собой группы, часто называвшиеся Римом и Карфагеном; к тому же у каждого ученика был свой индивидуальный конкурент (aemulus), который следил и сообщал преподавателю не только об ошибках, но и о поведении своего соперника. Группу из десяти человек (decuria) возглавлял декурион (decurio), в обязанности которого входило собирать для проверки письменные работы и выслушивать выученные наизусть домашние задания. Декурионы подчинялись главному декуриону (также мог именоваться цензором или претором), который назначался в каждый класс самим префектом начального отделения, следил главным образом за дисциплиной и за соблюдением школьных правил, а также выслушивал выученные наизусть домашние задания декурионов. Каждый месяц из лучших учеников выбирался т.н. магистрат, члены которого – офицеры – распределялись по степеням отличия и им присваивались имена видных деятелей греческой и римской истории. Офицерам высших званий в классе отводились более почетные – первые – скамьи. Остальные места в классе занимались учениками не произвольно, но распределялись в начале года префектом. При этом схоластики сидели отдельно от экстернов, а если присутствовали послушники из других религиозных орденов, то для них отводились отдельные скамьи. За тем, чтобы этот порядок неукоснительно соблюдался, а также за готовностью классной комнаты к урокам, за распределением книг и учебных материалов, за дисциплиной во время перемен, за посещаемостью занятий, за подготовкой публичных диспутов, любого рода официальных церемоний и т.п. следили специально назначаемые помощники наставника класса. Урок начинался по специальному сигналу, только после которого ученики имели право войти в класс и занять отведенные им места. Потом следовала краткая молитва, которую ученики высшего отделения выслушивали стоя, а начального – на коленях и с непокрытой головой. Занятия проходили утром и после полудня, в среднем до пяти часов в день; по субботам и в предпраздничные дни учились, как правило, только в утренние часы.
Начальное отделение
В классах начального отделения работали как преподаватели, завершившие курс теологии, так и схоластики, для которых педагогическая практика в классах грамматики и поэтики была обязательной. Утренние занятия в начальном отделении начинались с того, что декурионы отвечали учителю задание предыдущего дня. Затем, пока наставник проверял письменные работы, декурионы выслушивали остальных учеников класса. После чего следовало объяснение нового материала. После обеда проверялись письменные упражнения и повторялся пройденный утром материал, объяснялся новый урок. Объяснение сопровождалось вопросами учителя к классу. Последние тридцать минут отводились для дискуссий и обсуждений.
Обучение в классах начального отделения начиналось с освоения латинской грамматики, которая изучалась в полном объеме за два года. Там, где иезуиты работали в начальной школе, учебный год начинался со знакомства с латинским алфавитом и приобретения навыков чтения. Читать учили простым складыванием букв алфавита в слоги и слова – самым традиционным (так называемым буквослагательным) для той эпохи способом. Одним из первых фонетический метод изучения языка (когда сначала изучаются правила чтения, и лишь потом учатся читать) был разработан Блезом Паскалем (1623-62) и использовался в педагогической практике янсенистами.
Главной задачей начального отделения было научить ученика владеть латынью как живым, разговорным языком (девиз: lege, scribe, loquere – читай, пиши, говори). От учеников старших классов начального отделения требовалось не только во время уроков, но и в свободное время на территории коллегии общаться исключительно на латинском языке. Изучение родного языка в Ratio Studiorum не предусматривалось, но его почти повсеместно учили в начальных классах. Об определенном внимание иезуитов к родному языку могут свидетельствовать инструкции И.Надаля, адресованные преподавателям коллегий в Кёльне (1560 г.) и Майнце (1567 г.) и затрагивающие проблему методики преподавания немецкого языка; открытие частной академии для изучения чешского языка в Богемии (1600 г.); встречающиеся в планах французских коллегий правила для написания стихов на французском языке; включение местного разговорного языка в качестве самостоятельной дисциплины в учебные планы коллегий в Украине и Белоруссии (Полоцк, 1584; Львов, 1608; Витебск, 1648). Известен и вклад членов Общества в создание многочисленных национальных грамматик и многоязычных словарей, особенно в районах миссионерской деятельности. Итальянец Маттео Риччи (1552-1610), например, наряду с составлением словаря китайского языка, перевел на китайский Евклида, написал на этом языке учебники по арифметике и геометрии. Европейская синология XVII–XVIII вв. в значительной мере была делом рук миссионеров-иезуитов. Для учебных целей работающие на миссиях члены Общества составляли первые грамматики и лексиконы на языках племен Южной Америки и Японии. Иезуитам принадлежит заслуга издания словарей и грамматик также и ряда европейских языков: например, латышского словаря, составленного Толгсдорфом Эрдманном (1550-1620) и латышских грамматик 1732 г. (Григорий Шпунгианский (1692-1733)) и 1737 г. (Генрих Медем (1671-1739)). А многоязычные словари японско-латинско-португальский (1595); польско-латинско-греческий Григория Кнапского (1564-1639); польско-латинско-латышский Ежи Элгера (1586-1672) и многие другие можно рассматривать как значимый вклад в развитие сравнительного языкознания.
Одними из первых в католических учебных заведениях стали учить детей читать сначала на родном языке, а только потом на латыни лишь в середине XVII в. педагоги Порт-Рояля во Франции. Этот опыт позднее подхватило и сделало общим правилом "Общество братьев христианских школ" Жана-Батиста Ласаля (1651–1719). Хотя в обоих случаях дети начинали учить родной язык не по оригинальным памятникам французской литературы, но по французским переводам басней Федра, комедий Теренция и писем Цицерона. Но в XVI в. во всех классических гимназиях безусловный приоритет отдавался латыни. Именно этому языку отводилось основной место в учебном плане Штурма, а также в знаменитом Саксонском учебном плане 1528 г., легшим в основу целого ряда учебных программ начальных школ отдельных немецких княжеств XVI – начала XVII в.
В коллегиях иезуитов латынь преподавалась по 3-томному учебнику португальского иезуита Иммануила Альвареса (1526-83) Наставление по грамматике (De institutione grammatica libri tres), созданному в 1572 г. на основе двадцатилетнего педагогического опыта филолога в коллегии в Коимбре и переработанному самим же автором в 1583 г. Грамматика Альвареса несколько веков была универсальным учебным пособием для коллегий иезуитов во всем мире, использовалась и другими монашескими орденами. Одно из последних ее изданий вышло в Петербурге в 1840 г. Со временем, правда, учебник подвергался определенной модернизации. Так, из него были изъяты пространные исторические и филологические экскурсы, сопровождавшие грамматический материал; в отдельные разделы были разнесены находившиеся до этого вперемешку объяснения, адресованные учителям и материал, предназначенный для учеников; издания в разных странах адаптировались в соответствии с грамматической структурой национальных языков. В коллегиях XVI–XVII вв. в исключительных случаях разрешалось использовать и другие грамматические пособия, в бóльшей степени учитывавшие специфику местных языков. Для греческого языка, который начинали изучать только в классе поэтики, не существовало единого учебника.
В классах грамматики читались фрагменты сочинений Цицерона (О дружбе, О старости, письма), Овидия (Скорбные элегии, Письма с Понта), Катулла, Тибулла, Проперция, Эклоги Вергилия, избранные тексты Саллюстия и римского грамматиста Теренция. Аналогичная подборка авторов изучалась и в протестантских классических гимназиях.
Основным методом преподавания была т.н. "прелекция" (praelectio), или устное объяснение "живым голосом" (viva voce). Этот метод, подробно описанный в сочинении Квинтилиана Наставление оратору и активно использовавшийся в средневековой педагогической практике, в XVI в. получил свою дальнейшую теоретическую разработку (у Эразма Роттердамского, например) и применялся в ряде протестантских учебных заведений; эквивалент прелекции (Vorlesung) сохранялся в практике немецких университетов в XIX – начале XX в. Метод прелекции был подробно изложен в разделе Ratio Studiorum "Общие правила для профессоров начального отделения" (п. 27).
Приступая к объяснению очередного фрагмента текста, преподаватель сначала зачитывал вслух фрагмент целиком, потом объяснял общий его смысл и, если это необходимо, его логическую связь с предыдущим отрывком. После этой вступительной части отрывок читался по предложениям, объяснялись трудные грамматические конструкции и смысл текста с помощью синонимичных латинских слов и выражений. В редких случаях допускался перевод на родной язык. В младших классах, когда объяснение велось преимущественно на родном языке, при переводе требовалось в максимальной степени сохранять структуру латинской фразы и порядок слов, чтобы ученики могли уловить ритм латинского языка. Считалось, что чем лучше ученик понимал логику грамматической конструкции изучаемого текста, тем лучше он понимал и смысл данного литературного отрывка. В конце объяснения преподаватель давал общие грамматические пояснения к фрагменту. Отдельные пункты объяснения записывались под диктовку или в конце урока, или в ходе объяснения, но только по команде учителя. Материалом для прелекций в начальных и средних классах грамматики был исключительно Цицерон, а за урок объяснялось не более 4-7 строк.
Такой метод подачи педагогом материала не только помогал ученикам лучше его усваивать: показывая учащимся, как надлежит работать с текстом, преподаватель в определенной степени готовил их к самостоятельному обучению. Метод прелекции использовался во всех классах начального отделения, а Ratio Studiorum 1832 г. предлагал аналогичный способ изучения литературных отрывков и на родном языке. Прелекция готовилась преподавателем до урока и требовала от него большой аналитической работы над текстом. Во время занятия учитель лишь зачитывал свои записи; какая-либо импровизация во время объяснения не поощрялась.
За прелекцией следовал устный опрос (concertatio), когда или учитель спрашивал, или ученики (в первую очередь соперники) задавали вопросы друг другу. Опрос представлял собой форму диспута, на котором обсуждались разбираемые на уроке грамматические правила, поэтические и риторические приемы.
Прелекции и опросы дополнялись устными повторениями – декламациями и письменными работами. В коллегии заученные прелекции ежедневно выслушивал декурион, письменно фиксировавший все допущенные ошибки. Главное требование, предъявляемое к письменным работам – в максимальной степени подражать классическим образцам, среди которых Цицерон занимал первое место. Письменные работы сдавались ежедневно, кроме суббот и праздничных дней в 2-х экземплярах. В классах грамматики это были прозаические отрывки; в классах риторики и поэтики к ним добавлялось сочинение поэм (сдавались для проверки два раза в неделю) и фрагментов на греческом языке (не чаще раза в неделю, после полудня, желательно после воскресений и праздничных дней). Письменные работы проверялись ежедневно, и Ratio Studiorum рекомендовал обсуждать их наедине с учеником. Преподаватель, правда, мог в начале или конце урока зачитать перед классом фрагменты из лучшего и худшего сочинений. Иногда работы для проверки распределялись между соперниками, которые должны были определить, что в сочинениях противоречит установленным грамматическим и стилистическим правилам и предложить свой способ исправления ошибок.
Привлечение декурионов для проверки выученных прелекций, а соперников для проверки письменных работ свидетельствует о том, что учебный процесс был организован таким образом, что ученики (главным образом лучшие из них) сами участвовали в преподавании. Можно предположить, что иезуиты, используя подобную практику, отталкивались в первую очередь от опыта иеронимитов: в братских школах с помощью небольшого числа педагогов обучали до нескольких сотен учеников путем занятий в малых (до 10 человек) группах, проводимых наиболее успевающими учащимися под контролем педагога. В XIX в. подобный опыт взаимного обучения, когда успевающие ученики одновременно и сами учатся, и обучают своих товарищей, был в определенной степени модернизировал и использован в ряде стран под названием Белл-Ланкастерской системы.
После окончания трех классов грамматики, ученик переходил в класс поэтики, где изучались фрагменты сочинений Эразма Роттердамского (О богатстве слов, О написании писем), Искусство поэзии и Оды Горация, Тускуланские беседы и речи Цицерона, поэтическое наследие Вергилия (за исключением нескольких запрещенных эклог и 4-й книги Энеиды), сочинения Цезаря, труды античных историков Саллюстия и Тита Ливия. Знакомство с греческим языком, который изучался теперь наряду с латынью, начинали с сочинений Эзопа и Аристофана, Плутарха, Платона и Исократа, а также фрагментов Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста. Единого учебного пособия Ratio Studiorum не предлагал, но наиболее распространенными были учебники: Поэтические наставления (Poeticarum institutionum libri tres, 1594) Якоба Понтана (1542-1626); О стихосложении (De Constructione, 1593) и О метрическом искусстве (De arte metrico, 1593) немецкого филолога и драматурга Якоба Гретсера (1562-1625); во Франции и в немецких княжествах особой популярностью пользовался трактат итальянца Александра Донати (1584-1640) Три книги поэтических наставлений (Ars poetica sive Institutionum artis poeticae libri tres, 1631).
Обучение в классе риторики для схоластиков, предназначенных для пастырской и проповеднической деятельности, продолжалось как минимум 2 года, а для экстернов продолжительность зависела от их личных способностей и практической необходимости. Курс риторики включал изучение теории красноречия (т.н. искусство inventio – выбор предмета рассуждения, dispositio – структурирование рассуждения и подбор аргументов, elocutio – нахождение надлежащих средств словесного выражения, memoria – запоминание, pronuntiatio или executio – произнесение, включающее умение владеть голосом и телом), истории риторики и получение практических навыков ораторского искусства. Целью классов риторики было развить у учеников совершенное латинское красноречие, которое понималось иезуитами (как и большинством гуманистов) как освоение в совершенстве красноречием Цицерона, его языком, стилем и интонацией. В качестве теоретических пособий использовались работы: Наставление оратору Квинтилиана; О нахождении материала, Об ораторе, Оратор Цицерона, а также ошибочно ему приписываемую Риторику к Гереннию; Аристотеля, который читался в латинском переводе; а также лучшие образцы античного ораторского искусства. Единого учебника не существовало, но определенной популярностью пользовалось пособие Киприана Соареза (1524-93) Три книги об искусстве риторики, почерпнутые преимущественно из Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана (De arte rhetorica libri tres ex Aristotele, Cicerone, Quintiliano praecipue deprompti, 1560), которое в XVII-XVIII вв. выдержало 35 переизданий. Во многих провинциях создавались собственные учебники, учитывавшие специфику национальных языков и местных традиций. Из греческих авторов читали Гесиода, Гомера, Демосфена, Платона, Пиндара и других. Исключительно для учебных целей создавались сборники пословиц, отдельных сентенций и фрагментов классических авторов, которые ученики использовали для подготовки публичных выступлений и письменных работ. Иезуиты не пользовались чрезвычайно популярными в педагогической практике XVI в. Собеседованиями (Colloquies, 1516) Эразма Роттердамского – сочинением, не рекомендованным для католических учебных заведений еще в 1538 г. папой Павлом III. Большое значение для учебных целей имели словари, охватывавшие иногда сразу три языка: латинский, греческий и местный разговорный.
Студенты класса риторики первый час утренних занятий посвящали тренировке памяти. Одновременно, пока наставник проверял письменные работы, предварительно просмотренные декурионами, ученики выполняли упражнения: например, написать фрагмент поэмы или речи, подражая определенному образцу; дать образное описание предмета или явления; перевести греческий фрагмент на латынь или наоборот; переписать поэтический фрагмент другим размером и т.п. Второй час утренних занятий отводился для прелекции и повторения. После полудня занятия начинались с повторения утренней прелекции и чтения новой. Второй час был посвящен греческому языку. По субботам на занятиях повторялся весь изученный за неделю материал, после обеда объяснялось какое-нибудь историческое сочинения, занимались греческим языком.
Иезуиты, в соответствии с восходящей к античности традицией, которая получила свое практическое воплощение в средневековой системе тривиум, рассматривали искусство запоминания – мнемонику – как принципиально важный раздел риторики. Общество Иисуса не приняло предложенную во второй половине XVI в. французским философом и педагогом Пьером Раме (Петр Рамус, 1515-72) реформу гуманитарных наук, состоящую в отказе от использования образной системы в процессе запоминания и переходе на систему исключительно логических ассоциаций. Кальвинист Раме отказался от старой техники запоминания скорее по религиозным, чем по теоретическим соображениям, перенеся теологическое иконоборчество на теорию школьной риторики. Иезуиты же в своей педагогической практике сознательно делали акцент на формирование образной системы запоминания, на активное использование воображения и вовлечение эмоциональной памяти в процесс обучения. Этому способствовала и визуальная обстановка, окружавшая человека XVI-XVII вв.: вычурность барочных архитектурных форм, экспрессивность скульптуры и живописи, пышность богослужений. Отсюда проистекала и своего рода театрализация всего процесса обучения в классах риторики. Отсюда в определенной степени берет свое начало и школьный театр иезуитов.
Для более эффективного запоминания и усвоения материалы иезуиты использовали не только возможности эмоциональной памяти своих юных воспитанников. Этой цели была подчинена и сама структура учебного процесса: непродолжительные по времени занятия и небольшой объем нового материала (как уже упоминалось, Ratio Studiorum не рекомендовал в начальных классах грамматики объяснять за урок более 4–7 строк текста Цицерона); составление учебного плана таким образом, чтобы одновременно изучались только смежные дисциплины, и предметы дополняли друг друга. Например, для лучшего понимания классических текстов объяснялся материал по мифологии, геральдике; знакомство с лучшими образцами ораторского искусства в классах риторики сопровождалось изучением исторических и географический реалий современной автору эпохи и т.д. В классических гимназиях XVI–XVII вв. всех конфессиональных ориентаций эти две дисциплины – история и география – были не самостоятельными, но лишь вспомогательными предметами. И католики, и протестанты относились к ним в первую очередь как к необходимому для риторики источнику эрудиции, обращались к истории и географии только в связи с чтением древних авторов; в обоих случаях эти дисциплины преподавались филологами. Но, хотя полноценное место в учебных планах Общества Иисуса они начинают занимать лишь в начале XVIII в. (впервые во французских (ок. 1705 г.) и немецких (1716 г.) коллегиях), уже учебные планы Римской коллегии предусматривают знакомство с сочинениями Салюстия, Тита Ливия, Светония, Корнелия Непота, Фукидида и многих других. В 1598 г. в Риме выходит первый учебник по всеобщей истории иезуита Горация Турселлини (1544-99) История от происхождения мира вплоть до 1598 г. в десяти книгах (Historiarum ab origine mundi usque ad annum 1598 epitome libri X), который использовался в учебных заведениях Общества наряду с пособиями Дионисия Петавия (1538-1652). Официальным учебником позднее был признан труд Максимилиана Дюфрена (?1688/89-1765) Основы истории (Rudimenta historica, 1727). Во многих коллегиях преподаватели обращались и к материалам местных национальных хроник. В отличие от древней истории, история средневекового периода была представлена в меньшем объеме. Фактически изучалась только история Церкви, которая рассматривалась как часть курса теологии и чаще всего и изучалась в рамках этого курса. Для преподавания географии коллегии использовали богатый материал, собранный иезуитами-миссионерами, составившими подробные карты, например, бассейна р.Миссисипи, Латинской Америки, Монголии и Китая, а также этнографические описания этих земель, обычаев населяющих их народов и т.п.
Система экзаменов во всех классах начального отделения была схожей. Письменные экзамены по прозе проводились для всех классов раз в год, а для высшего класса грамматики, поэтики и риторики устраивался еще и экзамен по поэзии. Экзаменационная комиссия состояла из трех человек, каждый из которых самостоятельно ставил оценку, а в конце экзамена баллы суммировались и выводился средний результат. Во время экзамена ученик мог пользоваться любыми записями и принесенными с собою книгами. Письменные работы сначала проверялись экзаменаторами. Потом ученик зачитывал избранный фрагмент своего сочинения, объясняя каждую допущенную ошибку и приводя соответствующее грамматическое пояснение. После чего ему предлагался перевод с родного языка на латынь, спрашивались наизусть грамматические правила. Результаты письменных экзаменов зачитывались публично, причем сначала назывались фамилии наиболее отличившихся учеников, а потом всех остальных по алфавиту. Ежегодный письменный экзамен служил основанием для перевода ученика в следующий класс или для оставления его на второй год. В редких случаях наиболее способные могла сразу после среднего или даже начального классов грамматики перейти в класс поэтики.
Высшее отделение
После окончания класса риторики, ученик мог продолжить свое образование в высшем отделении коллегии. Полный курс философии составлял не менее трех лет если студентами были только схоластики; для экстернов его продолжительность каждый раз индивидуально устанавливалась провинциалом. На занятия отводилось не менее двух часов в день. В конце урока несколько человек должны были пересказать изученный в этот день материал, а по субботам устраивалось общее повторение.
Философия преподавалась почти исключительно по сочинениям Аристотеля; в качестве вспомогательных учебных пособий допускалось использовать лишь те комментарии на его тексты, которые не противоречили учению католической Церкви. Таким пособием было, как правило, сочинение неоплатоника Порфирия (234–ок.305) Введение в «Категории» Аристотеля (Isagoga) – самый популярный комментарий и источник знания об аристотелевской логике на протяжении всего средневековья. Выбор Аристотеля в качестве главного философского авторитета, что было зафиксировано еще в Конституциях Общества (IV,XIV,3), не был уж столь очевиден в эпоху, когда вслед за ренессансными гуманистами был заметен значительный всплеск интереса к сочинениям Платона. Выбор иезуитов определялся, по всей вероятности, тем, что Парижский университет ориентировался в XVI в. на философскую систему Аристотеля.
Преподаватели иезуитских коллегий отказались от преобладавшего в университетских аудиториях метода надиктовывания материала: студентам предлагалось записывать лишь отдельные замечания, в то время как средневековые университетские уставы специально оговаривали, что темп чтения лекции должен быть таким, чтобы студенты успевали записывать дословно ее содержание. Материал на занятиях философией (также как и литературные отрывки в классах начального отделения) объяснялся методом прелекций, и фактически профессора активно использовали элементы филологического анализа текста. Преподавателем зачитывался вслух фрагмент Аристотеля, кратко объяснялось его содержание; отмечалась та часть текста, которую студенты должны были выучить наизусть; объяснялись сложные грамматические и лексические конструкции, чтобы учащиеся освоились со стилем и фразеологией Аристотеля. В конце лекции преподаватель предлагал возможные смысловые интерпретации отрывка, приводил наиболее веские аргументы в пользу одной из них. Сохранились свидетельства того, что преподаватели для подготовки лекций использовали также и оригинальные греческие тексты Аристотеля, а не только учебные пособия с переложением его сочинений на латинский язык.
Первый год курса философии отводился для изучения логики, которая также называлась диалектикой. После двухмесячного общего обзора, студенты знакомились с фрагментами 1 и 2 книг Герменевтики (Об истолковании) Аристотеля. Помимо сочинения Порфирия, для изучения диалектики использовались многочисленные учебники, принадлежащие перу иезуитов (Ratio Studiorum, например, рекомендовал пособия испанца Франсиско Толедо (1532-96) и португальца Педро Фонсеки (1528-99)), но ни один из них не стал официальным учебником во всех коллегиях Общества. На втором году изучалась философия природы (фактически – физика, космология и теория элементов) по трудами О небе (сочинение использовалось в сокращенном варианте), 1-й книге О возникновении и уничтожении и Метеорологии; третий (а иногда и четвертый) год отводился для знакомства со 2-й книгой О возникновении и уничтожении, О душе. Этические сочинения Аристотеля учащиеся проходили или в общем курсе, или под руководством профессора моральной теологии, если таковой был в коллегии. Изучали, главным образом, Никомахову Этику, Политику и приписываемую Аристотелю Экономику. На втором году обучения вводились 45-минутные занятия по математике (по трактату Элементы Евклида), а для наиболее способных устраивались и дополнительные уроки. Через два месяца после начала изучения математики вводились основы географии. Раз в месяц один из студентов математики в присутствии всех студентов философии и теологии решал предложенную ему математическую задачу.
Из-за материальных трудностей бóльшая часть коллегий Общества не располагала экспериментальной и лабораторной базой, хотя в ряде учебных заведений (например, в Лисабоне, Марселе, Праге, Вене, Львове, Вильнюсе и др.) существовали хорошо оснащенные астрономические обсерватории, в которых работали не только профессора-иезуиты, но и студенты курса философии.
Со временем курс философии в коллегиях претерпел некоторые изменения, хотя до начала XIX в. иезуиты сохраняли приверженность философской системе Аристотеля. В 1651 г. генерал Общества Франческо Пикколомини (1582–1651) издает документ (Ordinatio pro studiis Superioribus), содержащий 65 философских тезисов, которые запрещалось изучать и обсуждать в коллегиях ордена. Это было связано с необычайной популярностью философской системы Рене Декарта (1596–1650), значительно потеснившей Аристотеля во многих католических учебных заведениях, и основная часть запрещенных тезисов – это были положения картезианства. Все позднейшие изменения курса философии касались, главным образом, увеличения объема математики и физики, что было документально оформлено в 1752 г. при генерале Игнатии Висконти (1682–1755). Также в XVIII в. была несколько видоизменена и сама структура курса философии, когда иезуиты приняло предложенное немецким философом Христианом Вольфом (1679–1754) деление философии на логику и теорию познания; общую и конкретную метафизику; физику.
Философию имели право преподавать профессора, завершившие полный курс теологии и прошедшие его двухлетнее повторение. На практике, как правило, один профессор вел класс от начала и до конца курса в течение трех лет обучения; отдельные преподаватели существовали лишь для занятий этикой и математикой.
В течение первого года обучения в классе философии экзамен устраивался дважды. Задача первого, который проходил во время Великого Поста или в Пасхальную неделю – определить, насколько данный студент пригоден для изучения философии. Второй экзамен студенты сдавали после завершения курса логики. В присутствии многочисленной комиссии, состоящей из ректора, его советников, префекта высшего отделения, профессоров, иногда и провинциала, а также всех студентов курса экзаменуемый отвечал в течение часа на предложенные ему вопросы. Результаты оценивались по 3-х балльной шкале: выше среднего, средний результат и ниже среднего. В первом случае студент переводился на второй курс и в будущем допускался до курса теологии. Во втором случае судьба каждого учащегося решалась индивидуально: будет ли он допущен для продолжения учебы, в каком объеме он будет осваивать курс теологии и т.п. Студенты-схоластики, получившие результат ниже среднего, в последующем в рамках курса теологии изучали только т.н. казусы и их готовили исключительно для выполнения административных функций и проповеднической деятельности.
Только первая категория студентов (и среди них численно безусловно преобладали схоластики) допускалась к изучению курса теологии в полном объеме, который продолжался 4 года. Теология понималась не столько как отдельная дисциплина, сколько как синтез всех полученных ранее знаний. Помимо традиционной для большинства университетских курсов той эпохи схоластической теологии, иезуиты стали уделять большое внимание и т.н. теологии позитивной, состоявшей в штудирования текстов Священного Писания (в течение 2-х лет, по 45 минут в день), материалов церковных соборов и сочинений отцов Церкви. Для чтения этих текстов студенты теологии изучали основы грамматики иврита, а для их объяснения активно использовались в том числе и методы филологического анализа текста. Главным авторитетом по схоластической теологии выступал Фома Аквинский, что также можно рассматривать как одно из нововведений иезуитов. В крупнейших университетах XVI в. продолжали господствовать Сентенции Петра Ломбардского (ок.1100-1160). Выбор иезуитов определялся сильным влиянием испанской теологической школы (в первую очередь – преподавателя университета в Саламанке, доминиканца Франциска де Витторио (1480-1546)) на первое поколение последователей Лойолы, а также личным опытом самого основателя Общества: он изучал теологию в конвенте доминиканцев в Париже, где предпочтение явно отдавалось Фоме Аквинскому. Хотя в Конституциях Общества еще встречается упоминание о Сентенциях (IV,XIV,1). Курс схоластической теологии дополнялся изучением моральной теологии, которая в качестве самостоятельной учебной дисциплины оформилась лишь во второй половине XVI в. при деятельном участии иезуитов. Этот курс был нацелен на то, чтобы научиться решать на практике возникающие проблемы совести или т.н. казусы (casus conscientiae). Казуистика преподавалась по 2 лекции в день в течение 2-х лет только для иезуитов в качестве курса подготовки к исполнению обязанностей исповедников. Один-два раза в неделю студенты собирались для публичного обсуждения казусов. Учебные пособия были очень многочисленными, но наибольшей популярностью в XVII–XVIII вв. (и не только в учебных заведениях Общества) пользовались сочинения иезуитов: Моральные наставления (Institutiones morales, 1611) Джуана Азора – участника комиссии по составлению Ratio Studiorum 1599 г. и Суть моральной теологии (Medulla theologiae moralis, 1645/50) немца Германа Бузенбаума (1600–68).
В редких случаях в рамках курса теологии преподавалась т.н. полемическая теология. Еще до создания Ratio Studiorum, эта дисциплина возникла в Римской коллегии в связи с насущной необходимостью квалифицированно вести вероучительную полемику с представителями протестантского лагеря и преподавалась в целом ряде учебных заведений Общества. Не существовало единого учебного плана, и курс полемической теологии имел региональную специфику в зависимости от того, в каком конфессиональном окружении приходилось существовать той или иной коллегии иезуитов. Образцовым учебным пособием считались Рассуждения (Disputationes de Controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis hereticos, 1586-89) итальянского иезуита Роберто Беллармино (1542–1621). Если в коллегии не было высшего отделения, то элементы этого курса изучались в классах риторики. Ratio Studiorum 1599 г. сохранил полемическую теологию только в Римской коллегии и оставил на усмотрение провинциалов включение ее в учебные планы в странах, где католики сосуществовали с представителями других христианских конфессий.
Те из студентов коллегии, кто не получил высшего балла на экзамене по философии, а также пришедшие в коллегию для завершения своего образования диоцезиальные священники, изучали теологию по усеченной программе. Они проходили лишь отдельные выборочные места из Суммы Теологии Фомы Аквинского (вступление к I части; из II-I части только разделы о благодати; фрагменты III части о воплощении и таинствах), а также получали знания, которые были им необходимы в повседневном пастырском служении (церковное пение, литургия, изучение церковного календаря и т.п.).
Основным методом преподавания в классах теологии были лекции, которые дополнялись традиционными для всех отделений устными опросами и диспутами. После каждого года изучения теологии существовал переходной экзамен. Не сдавшие его студенты оставлялись, как правило, на второй год. В начале 4-го года обучения специальная комиссия отбирала наиболее способных студентов, которых представляли к получения научных степеней магистра и доктора.
Впервые опубликовано в: История образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и Возрождения / Под ред. Т.Н. Матулиса. Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2004. С. 469–532.
Примечания
- Sacrosancti et Oecumenici Consilii Tridentini, Paulo III, Iulio III et Pio IIII pontif. maximis celebrati, Canones et Decreta. Antverpiae, 1577. P. 158–159.
- Основную группу священников в Обществе образуют т.н. профессы (professi). Духовные коадъюторы (coadiutores spirituales) – это священники, получившие не столько теоретическую, сколько практическую подготовку, предназначенные, например, для исполнения функций экономов в резиденциях иезуитов. Светские коадъюторы или братья (coadiutores temporales или laici) исполняли обязанности по администрированию и обслуживанию резиденций; перед вступлением в Общество или во время новициата они, как правило, осваивали одну из ремесленных специальностей.

