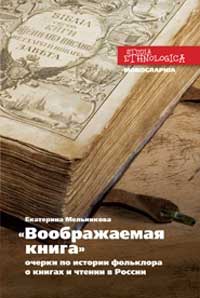 Глава, посвященная Библии, является заключительной частью этой работы, хотя все исследование начиналось именно с вопроса о роли Библии в народной культуре. По сути дела, именно попытка понять, что значит Библия для современных крестьян, и заставила меня обратиться к тому, в каких случаях крестьяне вообще говорят о книгах, что говорят о них и зачем.
Глава, посвященная Библии, является заключительной частью этой работы, хотя все исследование начиналось именно с вопроса о роли Библии в народной культуре. По сути дела, именно попытка понять, что значит Библия для современных крестьян, и заставила меня обратиться к тому, в каких случаях крестьяне вообще говорят о книгах, что говорят о них и зачем.
В этой работе практически ничего не было сказано об «обычных» книгах и «обычном чтении». Конечно, современные крестьяне читают. Читают газеты, журналы, Маринину и русскую классику. Но исследование того, что и почему читается, как понимается и обсуждается — это совсем другое исследование. В нем никогда не были бы затронуты ни рассказы об «отчитывании», ни пророчества о последних временах, ни истории о никоновских справах. В нем также не нашлось бы места и отношению крестьян к Библии.
После того как стало возможным применение к священным религиозным текстам методов филологического и исторического анализа (так называемая «демифологизация»), следующим шагом было рассмотрение Писания как культурного и социального феномена. Существенные изменения в области исследования так называемых книжных религий и самих религиозных канонов произошли с начала 1980-х годов. Отправной точкой новых работ стал тезис о том, что «ни один текст — ни письменный, ни устный, ни оба вместе взятые — не являются сакральными или авторитетными сами по себе, рассмотренные вне сообщества… У письменного текста нет абсолютного “значения”, существующего отдельно от сообщества, которое этот текст интерпретирует и считает авторитетным» (Graham 1987: 5).
С этих позиций рассматривались история формирования и развития в различных традициях понятия «канон»; значение, которое имеют в различных сообществах священные книги — будь то Коран, Тора или Библия; традиционные практики экзегезы и связь между авторитетом священных книг и Церковью как институтом, контролирующим их интерпретацию и распространение (Levering 1989; Smith 1982; Graham 1987; Smith 1993; Timm 1992). Примечательно, что примерами в компаративных исследованиях всегда служат мусульманские общества, а для сравнения, как правило, привлекаются традиции индуизма и буддизма. Практики чтения и толкования священных текстов «рядовыми» гражданами исследовались в мусульманских сообществах и постреформационных общинах Европы и Америки (Gordis 2003; Reedy 1985)1, но мне неизвестны работы, где бы рассматривались способы использования Писания обычными католиками или православными.
Объяснить такое невнимание несложно. Мусульманские традиции представляют яркий пример исторически сложившейся практики чтения (reciting) Корана верующими. Так, можно сослаться на работу Дж. Н. Бэйкер, где рассматриваются способы чтения и толкования Корана в небольшой мусульманской деревне на востоке Индонезии (Baker 1993). Реформационные религиозные движения XVII–XVIII веков декларировали необходимость чтения Писания простыми верующими. Практика чтения и толкования Библии становилась центральным звеном проповедей и воспроизводилась затем во время «домашних» собраний общины (Gordis 2003: 97). И в рамках традиционного ислама, и в контексте реформационных учений средневековья и Нового времени Писание (Scripture2) было тесно связано с религиозной повседневностью верующих. Содержание текста было актуальным не только для апологетов религии, но также для обычных граждан, адаптировавших используемый священниками способ толкования Писания.
Регулярное чтение и толкование священных текстов верующими не следует отождествлять со всеобщей доступностью канона. Само понятие «канон», предполагающее утверждение абсолютного и исключительного авторитета одного текста по отношению ко всем прочим, всегда связано с доминирующей религиозной идеологией и определяется теми институциями, которые претендуют на контроль над религиозной жизнью людей. На практике все без исключения реформационные течения были вынуждены ограничивать толкования Библии. Как показали Р. Госроп и Г. Штраусс, с середины 20-х годов XVI века, уже после начала Реформации в Германии и знаменитой декларации Лютера о том, что «Библия проста для простых, а сложна только для хитрых и неискренних», Священное Писание практически полностью исчезает из школьных про грамм, и только во второй половине XVIII века образовательная политика становится настолько значима для реформаторов, что они допускают перевод Библии на народный язык и ее широкое распространение среди обычных граждан (Gawthrop, Strauss 1984). Официальная церковь власти считала пуританские собрания для чтения Евангелия близкими к ереси, и в конце концов несколько наиболее ярких общинных лидеров были осуждены, а их толкования Писания были признаны антицерковными (Gordis 2003: 102, 113 и далее).
Тем не менее, исходный импульс и пример использования Писания исходил из церковной среды. В Новой Англии публиковались специальные руководства о правильном чтении и объяснении Писания. Одно из руководств советовало прихожанам самостоятельно проверять истинность толкований, услышанных от священника во время проповеди. Женевская Библия (1599 г.) предварялась надписью «Как сделать чтение Священного Писания полезным», где верующим рекомендовалось читать Библию как минимум два раза в день (там же: 33).
Христианская догматика, развитая в учениях и ритуалистике католической и православной церквей, опиралась на иное отношение к авторитету Священного Писания. В западной церкви долгое время существовал прямой запрет на чтение Библии обычными верующими. В православии такого запрета не было, но в середине XIX века его установление казалось вполне возможным.
Отношение к Библии в Русской православной церкви восходит к общему пониманию «чтения» писаний, сложившемуся еще до выхода первого библейского свода. Здесь нужно учитывать, что сама Библия как узаконенный сборник канонических книг появляется в Европе не раньше XIII века (Smith 1993: 268). Первый библейский свод на Руси — Геннадиевский — был составлен только в 1499 году. До этого времени словом «писания» назвались различные книги, «все, что было написано» (Порфирьев 1858, 7: 454). Появление канона, которому постепенно присваивается название «Библия»3, имеет отношение не только и даже не столько к сфере бытования самих библейских текстов — в разрозненном виде они были распространены и до, и после появления свода — сколько к прагматике Священного Писания, которая является определяющей для понятия «канона» как такового. Составление библейского кодекса означало «закрытие» канона. В результате различные по происхождению и содержанию тексты оказывались в рамках церковной доктрины и политики одним текстом и одним предметом. Только с этого момента можно говорить об отношении Церкви к Писанию как к абсолютному и исключительному по авторитету письменному тексту.
Вопрос о чтении Библии определялся в средневековье прежде всего общим отношением к «чтению». Книжное учение всегда описывалось в религиозной литературе как особенная добродетель (Порфирьев 1862, I; Franklin 1989). Одно из распространенных житийных клише включало описание упорства святого в чтении святых книг4. Но понимание цели чтения в это время сильно отличалось от современного.
Древнерусские рукописи часто предварялись специальным «уставом о почитании книжном». В него могли входить «Слово о почитании книжном», надписанное именем папы Григория Римского, специальное «правило» св. Иоанна Златоуста и «Слово некого монаха о чтении книг»5. Чтение описывалось в этих правилах как «беседа с Богом», способ обретения благодати Божией, но не получения знаний. В первом тексте лексема «читать» практически с первых строк заменяется на «слышать», которая используется потом на протяжении всего Слова:
(4) Велика бо польза нам, в мятежи мира сего будуще, почитание книжное
(5) А се велми есть зло и погибель души, еже не слышаще учения,
безвестно жити6.
«Правило» Иоанна Златоуста включает молитву, которая должна предварять всякое чтение и служит своеобразным руководством для читателя:
Седящу ти на почитании и послушающу словес Божиих, первые попомолися Богу, да ти отверзет очи сердечные не токмо написанная чести, но и творити я, да не в грех себе учения и жития святых прочитаешь, не сотворяюще. Егда убо чтеши книги те, прилежно чти, всем сердцем внимай, и двократы прочитай словеса, а не тщися, листы токмо обращая, но без ленности чти, да клад приимеши спасения, и страх Божий вселится в тя7.
«Спасение» и «страх Божий» описываются здесь как главный результат «правильного» чтения. Верное и ложное чтение определялись в средневековой книжности в категориях смиренномудрия — высокомудрия8, составлявших одну из основ христианской аксиологии. «Смиренномудрие» понималось в большинстве случаев как «смирение», но часто применялось именно к учению, приобретению и распространению знаний. Иоанн Лествичник, ссылаясь на евангельские слова, пишет: «Смиренномудрие есть безыменная благодать души, имя которой тем только известно, кои познали ее собственным опытом; оно есть несказанное богатство; Божие именование; ибо Господь говорит: научитеся не от Ангела, не от человека, не от книги, но от Меня, т. е. от Моего в вас вселения и осияния, и действия» (Леств. 25: 4)9.
Чтение книг не предполагало изучения текста, а попытки открыть тайный смысл в словах книги трактовались как недостойное любопытство («Смиренномудрый монах не любопытствует о предметах непостижимых; а гордый хочет исследовать и глубину судеб Господних» (Леств. 25: 12)10. Слишком большое внимание к тексту приравнивалось к «мирской мудрости», «величайшим наставником» которой, по словам Василия Великого, является «князь мира», и «тем паче ученики и ревнители его, хотя бы тысячекратно умудрялись, глаголющеся быти мудри, объюродеша (Рим. 1, 22) (Василий Великий 1993).Лукавое мудрствование осуждалось и порицалось. В одной из легенд по списку конца XVI века описывается случай, когда инок был «поругаем от беса за тщеславное его высокомудрие» (Памятники 1860, I: 114). Подобные сюжеты уже приводились в главе, посвященной исправлению книг11. Известны также апокрифы, где «неверное» толкование и чтение святых книг описывается как грех, грозящий несчастным адскими мучениями: «Змеи ядовитые будут для читавших святые книги и объяснявших их другим, но нетворивших воли Божией» (цит. по: Попов 1883: 380). В конце XVI века, по свидетельствам Курбского и митр. Артемия, учителя-мастера говорили: «Грех простым (мирянам) чести Апостол и Евангелие» и когда любознательные ученики хотели «навыкати писания», они отговаривали их, замечая: «Не чтите книг многих, чтобы не сойти с ума и не впасть в ересь» (цит. по: Доброклонский 1999: 161).
«Правильное» чтение как способ общения с Богом отождествлялось с молитвой. Монастырские уставы — сначала только скитские, но в XVI веке уже и общежительные — вменяли иноку в повседневную обязанность чтение Псалтыри. Если инок по каким-то причинам не мог «вычитать» положенное количество стихов, чтение заменялось молитвами. По «Уставу» Нило-Сорского скита монаху в течение дня и ночи полагалось прочитывать по «полпсалтыря». Неграмотные вместо этого должны были «вычитывать» 6000 молитв Иисусовых — по 3000 за «полпсалтыри» (Романенко 2003: 154).
Как показывает Т.И. Кондакова, понятие «чтец», которое фиксируется уже древнейшими памятникам русского языка, вплоть до XVIII века было обозначением служащего. Слово «читатель» появляется только в XVII веке, но и в это время оно сохраняет значение «клирик». Только к концу XVIII века «чтец» и «читатель» перестают быть синонимами (Кондакова 1978: 110).
Чтение Писаний не могло и не должно было быть массовым. Во многом этим объясняется позднее и медленное распространение славянских Библий. Следующая за Геннадиевским сводом Библия — Острожская — появилась только через сто лет после него (1581 г.). За все время с момента составления Геннадиевского свода и до первых изданий Российского Библейского общества (1816 г.) в России вышло только 26 изданий Библии. Списки с Геннадиевской Библии не могли иметь широкого распространения. Печатные Острожское и Московское издания 1663 года также оставались очень дорогими и редкими. Только начиная с Елизаветинской редакции (1751 г.) Библии издаются регулярно и становятся доступны. И то и другое — достаточно условно. В Санкт-Петербурге с 1751 до 1816 года была издана только собственно Елизаветинская Библия. В Москве за этот же период выходит 13 перепечаток Московского издания 1663 года. Три издания выходят в Киеве12. К сожалению, судить о тиражах этих изданий невозможно, но вряд ли следует ожидать, что они превышали несколько сотен экземпляров. Нужно учитывать также, что все эти издания были на церковнославянском языке. Первые переводы на русский язык отдельных библейских книг появляются только в начале XIX века. Полный русский перевод Священного Писания — так называемый Синодальный — выходит только в 1876 году.
Параллельно с изданием «Библии сиречь Книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета» в России выходили и отдельные библейские книги, прежде всего Четвероевангелие, Псалтырь и Деяния апостолов. Значительная часть изданий должна была обслуживать нужды церкви. Но даже с их учетом масштабы распространения Библии в России были очень скромными.
Отношение к чтению Писания как способу общения с Богом, не требующему толкования и буквального понимания самого текста, отразилось и в области церковной обрядности.
Чтение Библии входит во все обряды Православной церкви. Евангелие, Апостол и Псалтырь13 являются богослужебными книгами, предназначенными как для общественного, так и для частного богослужения14. Евангелие читается в церкви по воскресеньям на утрени и во все дни года во время литургии. Богослужебные Евангелие и Апостол разделены на «зачала», порядок чтения которых определяется церковным уставом. Он установлен таким образом, чтобы в течение года было прочитано все Четвероевангелие и весь Апостол. Порядок их чтения достаточно сложен, поскольку в церковном уставе указываются как «рядовые чтения», так и «особые». Иными словами, практически во все дни года зачала должны читаться одно за другим, но, кроме того или вместо этого, в определенные дни установлено специальное чтение конкретных зачал, независимо от того, соответствуют ли они общему порядку или нет. Евангельские стихи, таким образом, читаются не в той последовательности, как они записаны в обычной Библии. Согласно порядку богослужения, Евангелия излагаются в апракосах, но и здесь проводится только «рядовой порядок»15, «особые» же зачала в одной книге учесть нельзя, так как они соответствуют различным праздникам, в том числе и подвижным.
Место Евангелия в рамках богослужебного ритуала определяется символикой самого храма и службы. Именно поэтому в воскресные дни Евангелие читается в алтаре, «из которого, как бы из гроба Господня, раздается весть о воскресении Христовом» (Никольский 1907: 285), хотя даже при открытых Царских вратах читаемый текст, очевидно, должен быть плохо слышен прихожанам. После чтения священник выносит Евангелие из алтаря и, сопровождая свои действия соответствующими молитвами, возлагает его на аналой для целования. Этот обряд совершается каждое воскресенье.
Наиболее яркий момент службы, когда в центре действия оказывается Евангелие — это «малый вход» во время литургии. Малый вход совершается во время первой — «открытой» — части литургии16 и олицетворяет шествие Иисуса Христа на евангельскую проповедь. Само Евангелие в этот момент представляет Иисуса Христа. Некоторым из читателей, возможно, знаком обряд выноса Евангелия. Но стоит описать его хотя бы для тех, кто никогда его не видел.
Евангелие, которое вносится в храм в этот момент — это напрестольное Евангелие, лежащее в обычное время в алтаре. Напрестольное Евангелие, как правило, бывает большого размера, с металлическими, нередко золотыми или серебряными досками. В средние века напрестольные Евангелия обычно жертвовались в церковь богатыми прихожанами и часто — князьями, и поэтому нередко были богато украшены и всегда относились к числу главных святынь храма (Доброклонский 1999: 207). Такое Евангелие передавалось в церкви из поколения в поколение и хранилось часто с самого ее открытия. В обычные дни Священное Писание читается не по этой книге, а по служебным Евангелиям.
Во время литургии священник берет Евангелие с престола и с поклонами отдает его дьякону. Затем через северные врата Евангелие выносят из алтаря в открытую часть храма. Встав перед Царскими вратами, священник и дьякон приклоняют головы, после чего следует «входная молитва», по окончании которой дьякон произносит: «Благослови, Владыко, святый вход». По уставу эти слова должны произноситься тихо. Священник благословляет рукой на восток, говоря: «Благословен вход святых Твоих, всегда ныне, и присно, и вовеки веков». Дьякон подходит к священнику с Евангелием, и священник его целует. Затем дьякон, став перед иереем, поднимает и показывает Евангелие, делает им крест и произносит: «Премудрость, прости»17. Далее, в зависимости от праздника, либо читается «входное» («входной стих»), либо следует пение «Приидите поклонимся и припадем ко Христу», к которому прибавляется часть антифона, назначенного этому дню. Затем поется «Аллилуйя»18 и тропари. В это время священник и дьякон через Царские врата уходят в алтарь. Во время пения «Аллилуйи» дьякон берет кадильницу и фимиам, подходит к священнику за благословением, после чего накрест кадит святую трапезу, алтарь и священника. После каждения дьякон снова подходит к священнику, держа в руках орарь с Евангелием и просит благословения, говоря: «Благослови, Владыко, благовестителя святого, славного, всехвального Апостола Евангелиста <имярек>». Иерей благословляет и произносит: «Бог молитвами святого, славного и всехвального Апостола и Евангелиста <имярек>, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа». Этот диалог происходит в закрытой от глаз прихожан части храма. Получив благословение от священника, дьякон берет с престола Евангелие и выносит его в храм к аналою. Перед Евангелием несут лампады, «знаменующие, что евангельское сказание есть свет Христов» (Никольский 1907: 396). Дьякон придерживает как бы стоящее на аналое Евангелие. Священник, стоя у престола, говорит, обращаясь к прихожанам: «Премудрость, прости, услышим святого Евангелия», затем: «Мир всем». Хор поет «И духови твоему». Дьякон возглашает о том, какого Евангелиста будет чтение. Хор поет «Слава Тебе, Господи», после чего дьякон кладет Евангелие на аналой. Священник в алтаре, обращаясь к прихожанам, произносит: «Вонмем». После этого читается определенное уставом зачало Евангелия. По прочтении Евангелия священник говорит: «Мир ти, благовествующу», и клирос поет «Слава Тебе, Господи, Слава Тебе». У Царских врат дьякон отдает Евангелие иерею, и священник целует его. Во время литургии другие представители причта и прихожане не прикладываются к Евангелию. Евангелие снова возлагается на престол, после чего Царские врата закрываются19.
Торжественный вынос напрестольного Евангелия должен был производить большое впечатление на прихожан и, вероятно, оценивался как один из центральных моментов службы. Критерии, которыми руководствовались крестьяне в выборе книг Священного Писания, когда стало возможным их приобретение, были, скорее всего, связаны с рецепцией именно этой части литургии. «Настоящая» Библия, которую хотели получить крестьяне, должна была напоминать напрестольное Евангелие: быть большого размера, толстой и дорогой (Бобров 1903).
В то же время православная служба ни в один из периодов своего развития не могла служить основой для формирования практик чтения Священного Писания в среде прихожан. Чтение Библии было частью как праздничного, так и будничного богослужения, но сам ритуал не предполагал повторения прихожанами слов священника или заучивания библейских текстов.
Вплоть до Никоновских реформ, а во многих церквях и после этого использовалось так называемое многогласие: чин литургии был настолько длинным, что его разбивали на части, которые читались в церкви одновременно несколькими служителями причта (Преображенский 1904; Стефанович 2002: 299–300). Этот обычай делал службу практически совершенно непонятной для прихожан, и его устранение обсуждалась уже в XVI веке. Но поскольку неизбежным следствием установления единогласия должно было стать сокращение службы, этот вопрос очень долго вызывал сопротивление со стороны приходского духовенства (Стефанович: там же).
Языком православного богослужения до сих пор остается церковнославянский, на нем же читаются и отрывки из Писания. Нужно также учитывать и традиционную «псалмодическую» манеру самого чтения в храме20, которая не была ориентирована на то, чтобы читаемое было понято слушателями. Каноническая православная обрядность не могла стать основой формирования того типа «чтения» (reciting) священных текстов, которая известна в мусульманских традициях, где Коран может читаться наизусть даже без понимания (Baker 1993).
Некоторые прихожане православных церквей, безусловно, знали части службы, а иногда и всю службу наизусть. Это прежде всего те, кто пел в церковном хоре, церковные чтецы, иногда еще несколько человек, непосредственно участвующих в жизни церкви. Но их знание было очень инструментальным: это собственно знание хода службы, а не знание Священного Писания. Гораздо позднее, уже в советское время эти навыки позволяли людям проводить некоторые службы без священника (Fitzpatrick 1994: 205). Чтение Священного Писания не выделяется во время ритуала среди других произносимых священником текстов, за исключением обряда литургии, когда чтению Евангелия предшествует его торжественный вынос. Поэтому знание церковной ритуалистики никогда не означало знания Библии.
Естественным контекстом чтения и объяснения Библии должна была бы стать проповедь. Но, несмотря на достаточно развитый в русском богословии жанр толкований Священного Писания, на практике библейские тексты крайне редко использовались священниками вне богослужения. Как пишет П.С. Стефанович, в Русской православной церкви вплоть до середины XVII века в общем не было принято читать проповеди с амвона, и мирянин получал поучения и наставления в вере в основном от своего «батюшки» на исповеди (Стефанович 2002: 237)21.
Одним из первых предприятий Священного Синода была попытка обязать представителей духовенства произносить проповеди, объяснять основные догматы Церкви и читаемые во время службы Евангелия. С этой целью были выпущены специальные «наставительные книжки», которые священники должны были читать в воскресные и праздничные дни «в церквях перед народом» (Розанов 1869, 1: 91). В Духовный регламент была внесена специальная статья об обязанности священника говорить проповеди22, а в 1737 году выходит именной указ о том, чтобы «которые науки окончили, и пожелают быть в духовных чинах, таких освидетельствовав их науки, тотчас определять и накрепко приказать, чтоб они по искусству своему во все воскресные дни предики [т. е. проповеди. — Е.М.] сказывали, и что подлежит к доброму и честному и непорочному житию народ обучали»23.
Преосвященный Платон Левшин определяет годовую норму проповедей для московских священников: «Которые ходили до богословии (Sic!) и меньше 40 лет от рода, те бе говорили по 12, от 40 лет до 50 по 8, от 50 до 60 по 4. Кто выше 60 лет, тем оставлено на произвол» (Розанов 1870, III, 1: 90). В 1784 году преосвященный «велел с недосказавших полного числа проповедей, брать штрафа по рублю за каждую опущенную проповедь» (там же). Но судя по тому, что и позднее продолжали издаваться указы, требующие от священников чтения проповедей (в 1739, 1785, 1788, 1789, 1821, 1866 гг.), оно, вероятно, оставалось в православных церквях большой редкостью.
Даже в конце XIX века внебогослужебные чтения и проповеди были не слишком популярны в среде священников. Один из корреспондентов кн. В.Н. Тенишева пишет:
Чтения, устраиваемые в церквах, еще меньше имеют значения24. Чтения эти ведутся по распоряжению епархиального начальства, в праздничные дни между обедней и утреней. Лекторами являются диаконы и псаломщики. Читают обыкновенно поучения св. Отцов. Поучения, написанные в большинстве случаев высоким слогом и на славянском языке, совсем делаются непонятными для простого народа без объяснений со стороны чтеца... Читать в церкви священное писание обыкновенным разговорным языком считается неприличным, а потому чтецы тянут монотонно, в нос, без соблюдения знаков препинания, значение которых они, в большинстве случаев, и сами не понимают. Впрочем, чтецы и не задаются целью, чтобы читаемое было усвоено слушателями, они просто отбывают повинность и исполняют приказание своего начальства (ТА. Д. 803. Л. 19).
Объяснение, толкование Священного Писания так и не стало повседневной практикой для большинства священников. Таким образом, ни богослужебная практика, ни обычаи, связанные с внебогослужебным общением священника и прихожан, не предполагали обсуждения Библии. Широко распространенное убеждение в том, что восприятие Библии рядовыми прихожанами связано с ее использованием в церкви, кажется верным только в том смысле, что для большинства прихожан значение Библии оставалось в пределах ее литургической функции: присутствие Евангелия во время службы было доказательством правильности ритуала, а само напрестольное Евангелие служило образцом «настоящей Библии». Один из сельских священников, вероятно, не без утрирования рассказывает об отношении прихожан к его проповедям:
Агафонов и писарь похвалили меня за проповедь, а старики потребовали настоятельно, чтоб я таких поучений не говорил. «Наши прежние попы читали нам от Божьего писания, по большой книге; а что говоришь ты — кто тебя знает. Этак-то и всякий говорить умеет, как ты говорил. А ты нам читай».
— Да разве вы не поняли, что говорил я? Я вам и говорил-то от Божьего писания, только что — не по книге.
— Этак-то ты и теперь говоришь; так в церкви не говорят, там только читают. Ты читай по книге, мы и будем знать, что ты читаешь божественное; а то что? Говорит, не знай что, да глядит на людей.
— Из церковной книги вы ничего не поймете!
— Это все равно. Мы будем знать, что батюшка говорит нам Божье писание.
Пришлось уступить; после, возьмешь, бывало с клироса какую-нибудь книгу, положишь на аналой, да и говоришь, что знаешь. И ничего, роптать перестали (Записки 1880: 456)25.
Для значительной части православных верующих Библия была именно сакральным предметом в самом узком значении этого термина — табуированным в повседневной жизни и используемым в строго определенных случаях: для гадания, защиты, лечения (см. Белова 1999; Мороз 2005)26. Жанр толкования библейских текстов не был известен в крестьянской традиции и не мог возникнуть как отклик на существующую церковную практику.
Тем не менее, XVIII век изобилует примерами возникновения в России различных религиозных общин, практикующих обсуждение и толкование Священного Писания. Более ранние движения «стригольников» и «жидовствующих» из-за недостатка источников исследованы плохо. Насколько можно судить по доступным материалам, их лидеры не претендовали на собственную интерпретацию Священного Писания, но вообще отказывали ему (или его отдельным частям) в авторитете (Доброклонский 1999: 186–192). Та же логика прослеживается и во взглядах многих, кто обвинялся в отступлении от православия в начале XVIII века.
Подавляющее число дел этого времени связаны с обвинениями в непризнании догматов Церкви27, церковных обрядов и, в первую очередь, икон. Среди всех дел, рассмотренных Е.Б. Смилянской, только в трех случаях речь идет о попытках самостоятельного толкования Библии. Это дела Тверетинова (1713–1717), Настасьи Зимы (1717) и Гавриила Сурина (1722) (Смилянская 2003: 287).
Во всех трех случаях обвиняемые или проходившие по делу свидетели показывали, что публично читали и толковали Священное Писание. Известно, что к 1700 году Дмитрий Тверетинов составил тетрадь с «выписками из Библии» и начал широко проповедовать свои взгляды (Смилянская 2003: 266–267). По показаниям Настасьи Зимы, она вместе с членами семьи в 1713 году «отошла от церкви и стала на путь самостоятельного толкования Писания» (там же: 271). Привлеченные по этому делу свидетели показали, что «“противности церкви не имеют”, а приходили [к Настасье Зиме. — Е.М.] по случаю для “слушания Евангелия”» (там же: 271). Книги Священного Писания также толковал житель Тобольской губернии Варфоломей Иванов. Сам он признал на следствии только то, «что читал слушателям в монастыре Евангелие и “Первое учение отрокам”». Но Гаврила Сурин, ссылаясь на Иванова, «разглагольствовал на базаре, что нужно “церковные книги сложения святых отец прижечь”, что “кроме Евангелия и Псалтыри, и Апостола другим церковным книгам верить нечего”»28 (там же: 288).
На рубеже XVII–XVIII веков попытки совместного чтения и толкования священных текстов были, по всей видимости, еще новшеством. Именно поэтому они получают очень широкое обсуждение в обществе и становятся своеобразным «знаком» времени. В IX сатире Антиоха Кантемира эта идея занимает одно из центральных мест:
Дети наши, что пред тем тихи и покорны
Праотеческим шли следом к Божией проворны
Службе, с страхом слушая, что сами не знали,
Теперь к церкви сóблазну Библию честь стали;
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,
Мало веры подая священному чину (Кантемир 1867: 11)29.
В это время официальная Церковь сталкивается с необходимостью решения вопроса о том, кто имеет право читать и толковать Библию. В «Розыске о раскольнической брынской вере» Дмитрий Ростовский пишет по этому поводу:
Како бо и разумети могут не ведуще Писания, ни силы его? Аще кто и читает, не недоумеет, и толкует неправо. Человеку бо неучену сущу, и светом разума книжного непросвещену, неудобно есть постизати глу бину Писания Святого, и толковати недоведомые (Sic!) того тайны, на то токмо уповающему, яко черное по белом знает, и по книгам бродит: Писания же Святого тайны столько видит, сколько слепый видит лучи солнечные (Димитрий 1855: 11).
Здесь отчетливо видна средневековая идея «чтения писаний», трактуемого как «общение с Богом». Знания «черного по белому» недостаточно для понимания священных текстов. В «Розыске» Дмитрия Ростовского находится место и понятию «высокоумия»: «А которыи в них умеют читати и писати, коим малая некая заря разумения во уме блисну, тии себе в великие богословцы ставят, и учительми веры своея непреодоленными быти горделиво высокоумствуются» (там же: 94). Чтобы толковать, «учительствовать» Писание, согласно Дмитрию Ростовскому, нужно «быти освящену, от церкви Духом Святым во учительский сан поставленну», а также «премудру, доволен разум имущу, по словеси самого Бога» (там же: 92). «Раскольническое же учение не от таковых благоразумных учителей происходит, понеже их учители не токмо не суть от церкве Духом Святым на учительский сан поставлени, но и в Писании Божественном неискусни, ни ведущи того силы, ни толковати могущии право, но весьма простые мужики, в коих учителех их многии суть, иже ни азбуки ведят» (там же).
Иное мнение в отношении чтения Священного Писания нашло отражение в «Первом учении отрокам», где Феофан Прокопович пишет о Библии как о главном правиле веры, практически не упоминая Священного Предания. Об исключительности и нетрадиционности его идей для Русской православной церкви того времени свидетельствует тот факт, что некоторые современники квалифицировали «Первое учение отрокам» как результат влияния западной Реформации (см. Карташев 1913). По мнению Ф. Прокоповича, ереси и расколы происходят не от науки30, а от недостаточного знания Писания. Об этом он пишет и в Духовном Регламенте: «Дурно многие говорят, что учение виновное есть ересей… Наши же Русские раскольщики не от грубости ли и невежества возбесновалися? А хотя и от ученых человек бывают ересиархи, яковый был Арий, Несторий и нецыи иные; но ересь в оных родилась не от учения, но от скудного священных писаний разумения» (ПСЗР. Т. 6. № 3718: 330).
К 1860-м годам практики самостоятельного чтения Священного Писания становятся уже достаточно массовым явлением и встречаются в разных религиозных группах. Впоследствии религиозные движения, отталкивающиеся в своей идеологии от практик толкования Священного Писания, получают в научной литературе название «рационалистических» в противопоставлении «мистическим», для которых главным звеном идеологии и ритуалистики были экстатические пророчества. К числу первых, в частности, принято относить духоборов, молокан и субботников. Исследование способов толкования Библии в этих традициях выходит за рамки данной работы31. Здесь мне бы хотелось остановиться только на двух вопросах, связанных с их распространением: самой возможности их появления в России и их влияния на церковную политику в отношении чтения Библии.
Самостоятельное чтение Священного Писания последователями «рационалистических» религиозных движений, наряду с их принципиальным отказом от иконопочитания и участия в церковных ритуалах, исследователи обычно связывают с распространением в России идей европейской Реформации. Вполне вероятно, что так оно и было. Но нужно учитывать, что в России подобные течения появляются только с конца XVII века и оформляются, видимо, не раньше середины XVIII столетия. Если первые упоминания такой практики относятся к делу Тверитинова, то дальше мы встречаем свидетельства о чтении книг в рамках хлыстовских радений (оно упоминается в сборнике Василий Степанова, составленном в 1740-х годах32) и уже в более развитой форме — в духоборческой ритуалистике, начиная с 1760-х годов.
С конца XVII века, по наблюдениям Д. Винсента, чтение священных текстов становится целью и инструментом религиозного возрождения для целого ряда движений в Европе, как среди протестантов, так и внутри католической церкви. Это и лютеране Швеции, и пиетисты Германии, и евангелисты Британии, и новые католики Австрии, и янсенисты во Франции (Vincent 2000: 38). Эта общая тенденция могла действительно затронуть и Россию, о чем, во всяком случае, свидетельствуют упоминания «лютерской веры» в показаниях свидетелей по делам начала XVIII века (Смилянская 2003: 266). Другое дело, что с учетом широкомасштабности явления вывода о европейском влиянии оказывается недостаточно для объяснения его российских вариантов. Очевидно, что в России должны были существовать собственные культурные формы, способствовавшие и/или определившие развитие практик чтения и толкования Писания.
Несмотря на то, что возникновение «рационалистических» сект в России (как, впрочем, и многих других религиозных течений) часто возводят к традициям старообрядческих общин, связь между ними представляется далеко не такой уж очевидной. Известное мнение об исключительной начитанности старообрядцев до сих пор, как кажется, основывается на идеализированном образе старообрядца-грамотея, сформировавшемся в литературе XIX века. Наличие крупных книжных собраний в старообрядческих библиотеках само по себе не означает существования практики чтения и обсуждения книг в общине. Вопрос о времени формирования герменевтических традиций, фиксируемых в конце XX века33, также остается открытым.
Фрагмент з книги: Мельникова К. Воображаемая книга»: очерки по истории фольклора о книгах и чтении в России. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 182 с.).
Видавництво: http://www.eupress.ru/books/index/item/id/93
Екатерина Мельникова – кандидат исторических наук, сотрудник Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, выпускница факультета Антропологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Научный редактор сборника "Граница и люди: воспоминания советских переселенцев Приладожской Карелии и Карельского перешейка" (Санкт-Петербург, 2005). Сфера научных интересов: антропология памяти и пространства, миграция, история и этнография краеведения. Действующий проект: локальные идентичности советских переселенцев бывшей финской Карелии.
- Общий исторический обзор традиций толкования Библии от античности до конца XX века см. в: Rogers, McKim 1979.
- В английском варианте этот термин приложим ко всем главным религиозным книжным канонам.
- Слово «Библия» восходит к греческому biblia, где оно означало «книги» во множественном числе (Черных 1999: 89), что нашло отражение в древнерусском расширении названия свода: «Библия сиречь Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Первое упоминание этого слова в древнерусских памятниках находится в самом Геннадиевском своде: «В лето 7007 написана быс<ть> книга сия, глаголемая библия, рекше обеих заветов ветхого и нового» (там же). Второе упоминание этого слова за период XI–XVII веков фиксируется в 1586 году во вкладной записи Велико-Устюжского Михайло-Архангельского монастыря (СРЯ, 1: 184).
- Оно встречается в житиях св. Феодосия, Кирилла Туровского, Авраамия Смоленского, митр. Петра (см. подробней: Franklin 2002: 204; Franklin 1989).
- См. публикации текстов и исследования в: Архангельский 1890; Востоков 1828; Пономарев 1896; Порфирьев 1858; Розов 1976; Veder 1986.
- «Григория Папы Римского о почитании книжном слово». Приводится по публикации В.Р. Ведера (Veder 1986: 723)
- «Слово святого Иоана Златоустого о том, како подобает чтении послушати и внимати». Приводится по публикации И.Я. Порфирьева (Порфирьев 1858, 6: 179).
- Высокомудрие — дословный перевод греч. ύψηλοφροσύνη (ύψηλός — высокий; φρόσνημα — мудрие). Впервые встречается в старославянском списке XI века пандекта Антиоха (Срезневский 2003, I: 451; II: 185). В древнерусском языке зафиксированы дериваты «высокомудровати», «высокомудрую», «высокомудрый», «высокомудренный», «высокомыслие», «высокоумие» (там же, I). В памятниках XI–XVII веков слово «мудрие» встречается только в словосочетании «суетное мудрие» в значении «суемудрие, ложные уморассуждения, убеждения». Одно из постоянных значений слова «мудрование» в это же время — «умствования, показания, ложная мудрость, лжеучение». Также и «мудровати» встречается в значении «умствовать, проявлять бесплодность мысли, ложную мудрость» (СРЯ, 9: 294, 296).
- Цит. по изд.: Иоанн Лествичник 1996: 169
- То же изд.: 171.
- См. также: Franklin 1989.
- Сведения об изданиях Библии основываются на материалах картотеки Отдела редких книг Российской национальной библиотеки.
- Под Евангелием подразумевается Тетраевангелие. Апостол включает Деяния апостолов, 7 Соборных посланий и 14 Посланий апостола Павла.
- Общественное богослужение проводится священником регулярно в самом храме в соответствии с «рядовыми» указаниями церковного устава (Типикона). Частное богослужение совершается священником по просьбе прихожан по тому или иному поводу. Время и место частных служб может меняться и зависит прежде всего от характера требы.
- В частности, поскольку церковный год начинается с Пасхи, когда читается Евангелие от Иоанна, то и апракос начинается с него, а не с Евангелия от Матфея.
- Так называемой «литургии оглашенных», во время которой могут присутствовать некрещеные и готовящиеся к принятию крещения люди.
- Эта фраза предваряет чтение Евангелия и во время утрени.
- Так называется песнь, прославляющая Господа и возвещающая о его пришествии на Землю.
- Этот очень краткий пересказ ритуала основывается на руководстве К. Никольского, описывающего литургию Иоанна Златоуста, принятую в Русской православной церкви уже в средневековье (Никольский 1907). Вполне можно допустить, что «на практике» литургия могла иметь некоторые отличия от устава.
- См. Успенский 1968: 93–107.
- См. также об отсутствии проповедей в XVI–XVII веках: Рущинский 1871: 179–182 и в синодальную эпоху: Бернштам 2005: 109–111.
- ПСЗР. Т. 6. № 3718 (1721).
- ПСЗР. Т. 10. № 7385 (1737)
- Автор сравнивает их с так называемыми чтениями с туманными картинами или волшебным фонарем.
- Я признательна В.Ю. Макаровой за указание на этот текст.
- Ср.: «Если сильные раскаты грома, надо перекрестив окно евангелием три раза, поставить его раскрытым на восток, гром утихнет» (Пословицы 1914: 149); «Копоть (пыль) с “божеских книг” — смешать с водой натощак» (С-ой 1875: 341). См. также примеры в: Хойнацкий 1878, Бурцев 1902: 10.
- Среди них иногда было и Священное Писание. Так, Павел Жидовин, проходивший по делу 1701 года, утверждал среди прочего, что «Евангелие-де писано все от человеческого разума напрасно: кто там был и кому про то ведомо» (цит. по: Смилянская 2003: 257).
- Любопытно, что именно Евангелие, Псалтырь и Апостол — это единственные книги, которые используются в церкви во время всех богослужений — как общественных, так и частных. Вместе с тем они являются четьими, то есть могут быть использованы и вне богослужения
- О IX сатире Кантемира см.: Покровский 1910.
- Ср.: Расколы и ереси науки суть дети,
Больше врет, кому далось больше разумети,
Приходит в безбожие, кто над книгой тает. (Кантемир 1867: 9). - Использованию Священного Писания субботниками посвящен ряд публикаций А.Л. Львова (Львов 2003, 2005).
- Стих № 7 («Сия песенка — утешительная или беседовная») (Панченко 2002: 433).
- См.: Никитина 1993: 36–40.

