фрагмент из книги: «Воображаемая книга»: очерки по истории фольклора о книгах и чтении в России / Екатерина Мельникова. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 182 с.).
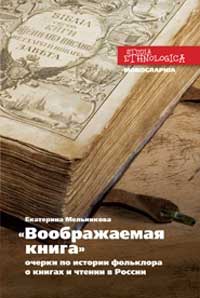 До начала XVIII века коллективные практики чтения и объяснения Писания существовали в России, по всей видимости, только в рамках монастырских традиций. Более того, судя по доступным материалам, почти исключительно в необщежительных монастырях — скитах. В обычном монастырском уставе обряд чтения Евангелия проходил более или менее так же, как и в приходских церквях34 и не предполагал обсуждения. Скитский же устав, во-первых, предполагал именно чтение (а не пение) богослужебных текстов (Романенко 2003: 151–152). Во-вторых, по правилам скитского устава чтение божественных писаний входило в обряд всенощного бдения. «Чтение продолжалось час или два… Читали внятно, не торопясь, как бы рассказывая, чтобы все было понятно. Если кто из монахов что-то не понимал, то спрашивал и слушал объяснения. “Чтение седим послушающе со вниманием, аще кто требует просити во упознание (Sic!) прочитаемых святых писаний, да вопрошает”» (Романенко 2003: 150, Романенко 2002: 160). Известно, что таким уставом пользовались Псковский Елеазаров монастырь и Нило-Сорский скит (Романенко 2003: 151). Всенощное бдение служилось в скитах в канун праздничных и воскресных дней, то есть, как минимум, раз в неделю.
До начала XVIII века коллективные практики чтения и объяснения Писания существовали в России, по всей видимости, только в рамках монастырских традиций. Более того, судя по доступным материалам, почти исключительно в необщежительных монастырях — скитах. В обычном монастырском уставе обряд чтения Евангелия проходил более или менее так же, как и в приходских церквях34 и не предполагал обсуждения. Скитский же устав, во-первых, предполагал именно чтение (а не пение) богослужебных текстов (Романенко 2003: 151–152). Во-вторых, по правилам скитского устава чтение божественных писаний входило в обряд всенощного бдения. «Чтение продолжалось час или два… Читали внятно, не торопясь, как бы рассказывая, чтобы все было понятно. Если кто из монахов что-то не понимал, то спрашивал и слушал объяснения. “Чтение седим послушающе со вниманием, аще кто требует просити во упознание (Sic!) прочитаемых святых писаний, да вопрошает”» (Романенко 2003: 150, Романенко 2002: 160). Известно, что таким уставом пользовались Псковский Елеазаров монастырь и Нило-Сорский скит (Романенко 2003: 151). Всенощное бдение служилось в скитах в канун праздничных и воскресных дней, то есть, как минимум, раз в неделю.
Кроме того, именно в сочинениях Нила Сорского прослеживается идея обязательного самостоятельного изучения Божественных Писаний монахами. Говоря о необходимости для инока «мысленного делания», в качестве главного средства «научения» умной молитве Нил Сорский указывает Священное Писание (Нил Сорский 1912: 13–14). Вполне вероятно, что практики совместного чтения и объяснения Библии существовали в Нило-Сорском ските, а возможно, и в других монастырях, пользующихся скитским уставом. Если учесть, что наследие Нила Сорского — прежде всего представление об «умной молитве» и значение Иисусовой молитвы — оказали существенное влияние на позднейшее развитие религиозных движений в России, то можно допустить, что и существовавшие в ските практики чтения Священного Писания были позднее заимствованы сектантскими общинами. Большинство их лидеров в XVII–XVIII веках были выходцами из среды духовенства и нередко монашества. У меня нет прямых доказательств связи между скитскими традициями и распространением практики толкования Священного Писания в XVIII веке, но такая связь представляется весьма вероятной.
Несмотря на появление в сочинениях Дмитрия Ростовского обвинений «раскольников» в неверном толковании Писания, такая формулировка не встречается в делах XVIII века. Ее, во всяком случае, нет в материалах, хранящихся в архиве Правительственного Синода. В случаях со старообрядцами обычно фигурируют «старопечатные» книги, само хранение которых считалось в синодальный период одним из основных признаков уклонения от православия. Вопрос о том, кто и как может читать Писание, приобретает центральное значение для Церкви только в начале следующего столетия.
Речь идет о событиях первой трети XIX века, связанных одновременно с открытием в Санкт-Петербурге Российского библейского общества и широким обсуждением в обществе распространения мистических сект.
Деятельность Российского библейского общества (1812–1826 гг.), работавшего по образцу Британского, заключалась в распространении Библии в народе и переводе ее на народные языки35. В первые годы после открытия Библейское общество снискало себе известность и поощрение как в церковных, так и в светских кругах. В 1816 году выходит стереотипное издание Нового Завета, в 1815 начинается деятельность по переводу Библии на русский язык. К 1822 году издаются русский перевод Нового Завета, Деяния Апостолов, значительная часть апостольских посланий и Откровение Иоанна Богослова (Чистович 1899: 33). С 1820 года начинается перевод Ветхого Завета, а в 1822 году выходит перевод Псалтыри36.
«Между тем, — как пишет И.А. Чистович, — с самого учреждения Российского библейского общества начали раздаваться голоса, выражавшие сомнение в приносимой им пользе и даже отрицавшие эту пользу» (там же: 48). «Против распространения библии и перевода ее на русский язык говорили немногие, и говорили не потому, чтобы находили это противным церковному учению или считали вредным; но потому, что не могли вдруг освоиться с мыслию о повсеместном чтении библии, и тем менее могли расстаться с привычкою читать священные речения по славянски; а главным образом потому, что это дело велось не церковью, но обществом светских лиц, в котором притом весьма много было инославных-католиков, лютеран и проч.» (там же: 50). В состав Библейского общества действительно входили не только духовные лица, и не только православные. Общество создавалось скорее как общепросветителькая организация, заинтересованная в распространении Слова Божия, а не конкретной религии. Первым президентом общества был кн. А.Н. Голицын.
Но в то же время в состав общества входили и высшие чины Православной церкви: ректор Санкт-Петербургской духовной академии архим. Иннокентий (Смирнов), митрополиты Михаил, Серафим, московский митрополит Филарет (Дроздов) и киевский митрополит Филарет (Амфитеатров). В результате сложной интриги при участии Аракчеева в мае 1824 года кн. А.Н. Голицын уходит со своего поста и президентом общества становится митрополит Серафим. В 1826 году после Высочайшего рескрипта деятельность общества прекращается. Перевод Библий на народные языки приостанавливается с закрытием Библейского общества и возобновляется только в 1856 году.
Закрытие общества было во многом связано с тем, что его деятельность стала рассматриваться как непосредственная причина уклонения «народа» от православия. Рубеж XVIII–XIX веков ознаменовался широким распространением мистических течений в России, в том числе и в столице. Один из скопческих лидеров Кондратий Селиванов встречается в 1796 году с императором Павлом I, а позднее и с Александром I, с 1802 года совершает многолюдные радения в Санкт-Петербурге и его пригородах. В 1819 году выходит книжка «О скопцах», а сама эта тема становится предметом постоянного обсуждения в обществе (Панченко 2002: 181–182; Смилянская 2003: 251). В 1817 году появляется кружок Е.Ф. Татариновой, завсегдатаями которого, в частности, были кн. А.Н. Голицын и А.Ф. Лабзин, заведовавший в Библейском обществе переводом Священного Писания на русский язык (Пыпин 2000: 152–153; Панченко 2002: 182).
В «Записке о крамолах врагов России» Шишков пишет: «Скорее и успешнее нежели чрез умножение сект, враги России надеялись ввести и усилить в России развращение нравов народа чрез умножение и распространение в ней разных вредных книг… И кто бы при русском простодушии мог подумать, что книги св. писания могут быть употреблены в орудие к испровержению (Sic!) в России древнего православия?» (Чистович 1899: 1384–1350). «Шишков и разделявшие образ его мыслей, — пишет И.А. Чистович, — боялись, как бы под влиянием издания в русском переводе одного пятикнижия Моисеева отдельно от пророческих книг ветхого завета не развилась ересь молокан и не последовали совращения простого народа в иудейство. Мало того. Переводчиков и издателей винили в этом, как в преднамеренно поставленной ими цели» (Чистович 1899: 117).
О связи между распространением Библий и уклонением в сектантство писал и митр. Серафим. В 20-е годы ему было поручено расследовать секту так называемых духоносцев, и, согласно его выводам, возникновению секты могло содействовать «всеобщее обращение Библий», «без других средств к посеянию в народе благочестия»» (Пыпин 2000: 263, 417–418).
Вполне вероятно, что «открытие» в первой половине XIX века большого числа разнообразных мистических сект и движений (см. Панченко 2002: 195) было связано не с их активным появлением в это время на конфессиональной карте России, а с обострением политики Церкви по установлению социального контроля в религиозной сфере, поиске и установлению «врагов»37. Далеко не последнюю роль в начале этого процесса сыграло и Библейской общество.
В рамках этой политики можно рассматривать события, происходившие после закрытия общества. Хотя продажа уже напечатанных Библий была разрешена, все переводы Пятикнижия, которые были сделаны и опубликованы к моменту закрытия общества, изымались. Значительная их часть сжигалась. В конце 1830-х годов, после вступления в должность обер-прокурора Св. Синода Н.А. Протасова, были напечатаны так называемые «Патриаршие грамоты»38, в которых о чтении Священного Писания говорится: «Всякому благочестивому позволяется слушать Писание, дабы веровать сердцем в правду и устами исповедовать во спасение; но не всякому позволяется без руководства читать некоторые части Писания, особенно Ветхозаветного» (Цит. по: Евсеев 1990: 69).
В 1830-е годы происходят серьезные изменения в программе духовных семинарий. «В духе этой системы распространяема была мысль, будто у православной церкви есть правило не всем христианам дозволять чтение слова божия… Наконец даже предполагаемо было утвердить исключительное, церковное и учебное, общественное и домашнее, употребление славянской библии церковным авторитетом, как это сделано в римско-католической Церкви относительно Вульгаты. Но, по счастью, этого сделано не было» (Чистович 1899: 129–130).
В 1842 году выходит постановление Св. Синода об изъятии из обращения всех экземпляров Ветхого Завета в переводе Г.П. Павского. Перевод этот появился достаточно случайно и был предназначен для студентов Духовной академии по классу еврейского языка. Частично сделанный самим Павским, преподававшим древнееврейский язык в академии, частично дополненный студентами, этот перевод представлял собой материалы учебных занятий, отлитографированные для удобства самими слушателями. Тем не менее, когда в Синоде стало известно о его существовании, было начато разбирательство, длившееся несколько лет и закончившееся решением об изъятии и уничтожении всех экземпляров перевода (Чистович 1899: 133–207).
После восшествия на престол Александра II перевод библейских книг на русский язык возобновляется, и, по данным Дж. Брукса, в 1860–70-х годах русские Библии становятся повсеместно доступны (Brooks 1985: 24). С началом реформ 1860-х годов на страницах светской и религиозной печати начинают активно обсуждаться вопросы народного просвещения и развития образования. Ни один выпуск церковной газеты или журнала не обходится без объявления об открытии новой приходской школы или церковного училища. Многие священники пишут о необходимости проповедей и чтений для народа.
Вместе с тем, чтение Библии для большинства представителей духовенства остается понятием, не совместимым с развитием народного образования. Рассказ о своем опыте распространения духовных книг в деревне А.А. Бобров, например, заканчивает вышеприведенной цитатой из «Патриарших грамот» (Бобров 1903: 35).
Уже в начале XX века иером. Михаил пишет в небольшой заметке: «Наши проповеди убивают Евангелие и только, не разъясняют его, а совсем отнимают у мужика слово жизни. Почему поднимает душу наше богослужение, несмотря на то, что оно народу мало понятно благодаря славянскому языку — очень просто. Оно окружает правду светом праздника, отрывает душу от обычных впечатлений дня, напоминает о существовании неба, о возможности жить по другому, — по-Божьи... Евангелие, которое читает дьякон из “золотой большой книги” торжественно и громко, понятно народу только кусочками, но важно то, что эти кусочки освещены торжественностью, звучат особенно, как слова особенной книги… Проповедь, это слово Евангелия, прочитанное со скукой безразличия… И вот, повторяю, проповедь, разъясняющая Евангелие, убивает его, лишает того остатка “зовущей мощи”, какую оно имело, в неразборчивом чтении дьякона “из золотой книги” (Михаил 1903: 1404). Аналогичные мнения высказывались затем не раз в связи с обсуждением деятельности комиссии по переводу Библии на русский язык (см. Евсеев 1990).
Реформы в сфере экономики и образования приводят к общему повышению уровня грамотности в России и изменениям в сфере ее применения. К концу столетия быть грамотным становится выгодным и в деревне (Brooks 1985: XVI). По всей видимости, именно в последней трети XIX века чтение приобретает массовый характер, становится всеобщим увлечением. Читать и рассказывать о прочитанном становится модным и в крестьянской среде (см. об этом в Главе 3). Все описания крестьянских собраний для чтения и обсуждения книг относятся именно к этому времени39. В одном из дел Тенишевского бюро описываются собрания в деревнях Череповецкого уезда Новгородской губ.:
В некоторых деревнях, каковы: Коротово, Попадьино, крестьяне охотники читать. Многие из них в свободное время сидят за книжками. Но не все же читать, захочется повидаться с соседями, перекинутся словом, другим. Такие крестьяне собираются иногда небольшими группами, в состав которых входят лица, интересующиеся книгами однородными. Любители чтения книг с религиозным содержанием составляют одну группу. В другую группу входят те крестьяне, которые любят читать про войны, про походы. К третьей группе принадлежат те, что интересуются далекими странами, путешествиями, особенно сопряженными с опасными приключениями. Собравшись в кучку, крестьяне, само собою, не сейчас же начинают разговор на любую тему, а они прежде потолкуют о том, что их ближе всего касается, а потом, когда ряд близких вопросов исчерпан, начинается разговор о прочитанном. Но половина крестьян и в этих деревнях найдется таких, которые сами книг не читают: одни малограмотны, другие совсем безграмотны, третьи просто не охотники до чтения. Эти крестьяне, например в той же деревне Коротове, собираются вместе. Разговор и таких крестьян не редко носит характер речей, заимствованных из книги (ТА. Д. 803. Л. 15 об.).
Только одна из описанных групп состоит из любителей религиозной литературы. Понятно, что перед нами не исчерпывающая картина читательских интересов того времени. Но даже из этого описания видно, что религиозная книжность является далеко не единственным и не самым главным предметом обсуждения в деревне этого времени. Тот же корреспондент описывает в другом деле и типичных сельских грамотеев Новгородского края. Среди них есть и так называемый «малограмотный» крестьянин, узнавший грамоту еще в дореформенной школе и пользующийся ею крайне редко; и местный «хадатая по разным делам», выполняющий в деревне роль писаря и чтеца; и «обыкновенный», средний крестьянин, пользующийся навыками чтения и письма только для своих собственных нужд; и «желательный и нарождающийся», по словам корреспондента, «тип нового крестьянина» — молодого, получившего образование уже в новой школе, читающего «книги больше сельскохозяйственные и прикладных знаний»; и, наконец, «книжник и начетчик, каких еще в каждой деревне можно найти, но это тип уже вымирающий» (ТА. Д. 801). По наблюдениям В. Антипова, «в общем старики предпочитают книги духовныя, а молодые — книги светския. В мужчинах любовь к чтению проявляется больше, нежели в женщинах. При совместном в деревнях чтении всегда мужчины преобладают над женщинами. Из женщин чтение ходят слушать почти одни старухи» (там же. Л. 26 об.).
Судя по спискам книг, которые приводятся в рукописи, личные крестьянские библиотеки в это время были достаточно внушительных размеров: от 40 до 50 книг у каждого из описанных крестьян. Во все собрания входит Евангелие: гражданской печати или на славянском языке, или то и другое вместе40. Только у последнего в коллекции было сводное издание Библии. «Книги священного писания Ветхаго и Новаго Завета, — пишет В. Антипов, — предпочитаются перед всеми другими книгами, а Библия, по их понятию, всем книгам книга, только она по цене не многим доступна. Псалтирь, часослов, святцы, молитвенники встречаются преимущественно на славянском языке. Евангелие и Библию на обоих наречиях вместе, Священную историю Ветхаго и Новаго Завета, а также жития святых всегда встретишь на русском языке. Книги на славянском наречии признаются “божественнее”, но их не каждый может читать, да и понимать их труднее» (там же. Л. 27).
Эти материалы согласуются с теми, которые приводят в своих работах А.И. Рейтблат и Дж. Брукс. Приведенная выше цитата показывает, что к концу XIX века «Библия», по всей видимости, уже понималась крестьянами как вполне самостоятельная категория, не равная сумме отдельных книг, составляющих канонический библейский свод. «Библия — всем книгам книга», но не всем доступная. Те же наблюдения находим и в рассказе А.А. Боброва о спросе на духовную литературу (Бобров 1903: 8). В это время сводная Библия действительно оставалась и гораздо более редким изданием, чем, например, Евангелие, и гораздо более дорогим. Вместе с тем она считалась безусловно более ценной, чем другие религиозные книги. Вполне вероятно, что на рубеже XIX—XX веков складывается устойчивое убеждение в том, что Библию сложно найти и читать ее может не каждый. По словам А.А. Боброва, в первые три года торговли (1877–1880 гг.) спрос на Библии гражданской печати был очень высоким, но потом снизился. «Гражданская Библия, говорили они [крестьяне. — Е.М.], хоть для чтения и больно проста супротив прежней славянской, а все-таки без понятия нашему крестьянскому уму не долго по ней вовсе сшибиться, думается нам» (там же: 33).
Еще одним следствием общей динамики в сфере экономики, образования и развития средств массовой информации на рубеже веков стало широкое обсуждение в обществе астрономических открытий и своеобразный всплеск эсхатологических ожиданий, о котором я писала выше. Хотя в старообрядческой риторике апокалиптические пророчества и до этого времени предполагали ссылку на библейский источник, устойчивая ассоциация между эсхатологической информацией и книгой формируется, скорее всего, именно в это время, во многом благодаря распространению и обсуждению в деревне популярных брошюр о комете. Об этом свидетельствует и тот факт, что топика эсхатологических нарративов, фиксируемых в конце XX века, сформировалась именно на рубеже XIX–XX веков (см. Панченко 2002: 358–364).
Советский период, как это ни странно, не привел к кардинальным изменениям в отношении к Библии. Уход религии из публичной сферы, с одной стороны, и переориентация образовательной сферы, с другой, привели скорее к изменениям той роли, которую выполняла Библия.
Вплоть до конца 1920-х годов образовательная политика Советов была не очень успешной, особенно на селе. Как показывает Шейла Фитцпатрик, уровень грамотности, заметно поднявшийся накануне Первой мировой войны, практически не изменился к 1926 году (Fitzpatrick 1979: 169). Образование для крестьян в это время было практически недоступно (там же: 59). По переписи 1926 года 51% всего населения страны был безграмотным. Среди мужчин в возрасте 16–50 лет, проживающих в городе, грамотными были 88,3%. Среди мужчин-крестьян той же возрастной группы — 68%. Лишь одна треть всех крестьянок была грамотной (там же: 169).
Только после объявления на XVI съезде КПСС о программе ликвидации безграмотности и введения обязательного начального образования ситуация начинает меняться. В 1930 году вводится обязательное четырехклассное образование, в 1937/1938 — обязательным для сельских школ становится пятый класс, на следующий год — шестой, и еще через год — седьмой класс (Fitzpatrick 1994: 224). За период с 1928/1929 по 1932/1933 годы число учеников в сельских начальных школах возрастает с 8 до 14 млн. человек. За это же время число учащихся в сельских средних школах увеличивается в 3 раза (там же: 225). Результаты переписей 1926 и 1939 годов показывают рост уровня грамотности в деревне с 51% до 84% (там же: 226). Понятно, что результаты переписей, скорее всего, завышены. Но, по наблюдениям Ш. Фитцпатрик, с начала 1930-х годов крестьяне придают образованию все более и более серьезное значение. После коллективизации и введения паспортов образование становится для крестьян чуть ли не единственной возможностью уйти из колхоза и устроиться на оплачиваемую работу в городе (там же: 231).
Параллельно с этими изменениями в деревне происходят серьезные трансформации в области религиозной жизни. В период с 1929 по 1933 год в СССР закрыта, по меньшей мере, половина всех церквей. Число представителей духовенства сокращается с 79 000 в 1926 году до 31 000 — в 1937 году (там же: 204). Уменьшение числа действующих храмов и священников приводит к процессу, обратному тому, что Грегори Фриз назвал «институализацией благочестия» (institualizing piety) (Freeze 1998). Церковь перестает быть институцией, контролирующей религи озную жизнь населения. В 1934 году в возрастной группе от 25 до 39 лет 38% женщин и 10% мужчин, по их собственному признанию, продолжали участвовать в религиозных обрядах (Fitzpatrick 1994: 205). В большинстве случаев эти обряды, вплоть до крещения, проводились самими крестьянами (там же)41.
Другая сторона этого процесса связана с изменениями в системе социальных отношений в деревне. Во-первых, исполнение религиозных обрядов приобретает внерелигиозный смысл и неизбежно начинает ассоциироваться (и окружающими, и исследователями) с противостоянием государству42. Показательно в этом смысле, что в интервью современных информантов, осуждающих антирелигиозную политику советской власти, рассказ о родителях (бабушке/дедушке), отказавшихся снимать иконы, часто выполняет роль аргумента в пользу не столько религиозности родителей, сколько их «принципиальности» по отношению к действиям властей:
[Информант описывает внутреннее убранство дома, в котором вырос] …Три иконы. Я даже представляю эти иконы. Вот, закрою глаза, думаю… я лег спать, и представляю эти три иконы. Огромные большие три иконы. И когда отец уже работал главным механиком, его поставили… уже всё же это уже чин в то время — главным механиком такого огромного завода быть… Пришла комиссия партийная и говорят: «Александр Федорович, — вы знаете, его уже по имени отчеству, — пора уже с этим покончить, с иконами. Снять иконы». Вот. Ибо… ибо… м…м… нельзя этого делать <…> А он им ответил: «Вы можете меня снимать с работы, что угодно делать. Не мною повешены, и не мне снимать». И до самой смерти, это, его… эти иконы так висели, и мать всегда молилась. Но нам эту молитву не привили (АКК)43.
Во-вторых, этот процесс приводит к выходу религиозной сферы из числа социально значимых институтов. Светское государство предлагает/навязывает обществу иную — внерелигиозную — модель социализации человека. Сюда входят все ритуалы жизненного цикла. Возникают и новые инициационные ступени. Одним из результатов введения обязательного начального, а затем среднего образования становится появление общего для всех советских граждан стандарта и мерки, которая определяет включение или не включение человека в структуру общества.
Успешная социализация в рамках светской модели требовала прохождения светских же «обрядов» и ступеней инициации. Именно в этом, как кажется, заключается главная особенность функционирования религиозной сферы в советский период. Не вполне понятно, насколько «советская» ситуация является типичной или нетипичной для обществ, где церковь отделена от государства. Одним из определяющих вопросов в данном случае является связь религиозности со сферой потребления, то есть наличие или отсутствие рынка, на котором могли быть проданы знания и навыки в области религии. Ни этот, ни другие вопросы, связанные с особенностью народной религиозности в советский период, пока, к сожалению, не получили обсуждения в научной литературе. Для данной работы важно, что в результате этих процессов знания человека в области религиозных практик и текстов перестают оцениваться по общей социальной шкале. Человек с высоким социальным статусом в сообществе может быть абсолютно «безграмотным» в области религии, и наоборот. Эти изменения имеют прямое отношение к чтению Библии.
Нужно сказать, что издание Священного Писания не было запрещено в советское время, и Библия несколько раз выходила в СССР44, хотя, конечно, оставалась в деревне редкостью. Мне не приходилось слышать о том, чтобы Библии изымались у крестьян или становились поводом для обвинений. Тем не менее, чтение и владение Библией выходит из числа общих показателей авторитета человека и становится частным маркером конкретной социальной роли. Читатель Библии — это человек, известный в деревне своей религиозностью и набожностью.
Полностью теряется и связь между чтением Библии и понятием грамотности. Религиозные книги уходят из школьного образования, и «грамотность» начинает ассоциироваться исключительно со сферой светского чтения и письма. Кроме того, 1920–30-е годы были связаны с массовыми репрессиями на селе, в результате которых значительная часть крестьян, ориентированных на чтение духовной литературы, была исключена из жизни деревни. Религия перестала быть сферой применения грамотности. Это, конечно, преувеличение. Вплоть до сегодняшнего дня в некоторых крестьянских домах можно встретить старые, еще дореволюционные издания религиозных книг, которые принадлежали родителям, дедушкам и бабушкам сегодняшних владельцев. Но такие случаи, скорее, редкость и только подтверждают общее правило: чтение Библии считается явлением исключительным и делегируется отдельным представителям деревенской общины.
Тем не менее Библия сохраняет значение «эмной» категории в деревне. Современные информанты пользуются этим понятием в своей речи. Вопрос собирателя в данном случае — далеко не единственный повод рассказа о Библии. В подавляющем большинстве случаев крестьяне сообщают, что сами не читали Библию, но, как правило, указывают местного богомольного старика или бабушку, у которой была Библия.
Знание Библии ассоциируется для современных крестьян не с ситуацией чтения, а со слухами и устными рассказами. На вопрос исследователя «А у вас Библия есть?» получаем такой ответ: «Ну… слышали так уж»45. Показательна реплика еще одной информантки: «Я видывала Библию, только мне вот уже не рассказывают»46.
Действительно, на протяжении всего периода советской власти Библия фигурировала почти исключительно как предмет народных «толков». Отсюда, видимо, и достаточно стереотипные описания внешнего вида Библии («большая», «толстая», «с золотыми буквами»)47, и то разнообразие фольклорных контекстов, в которые она включается. В описаниях Библии может использоваться практически весь корпус сюжетов и мотивов, вообще связанных в устной традиции с книгами. Единственный сюжет, который никогда не встречается в разговоре о Библии — это «начитывание» чертей по книге.
Основной сферой толков, где, вероятно, чаще всего фигурировала Библия, были разговоры местных стариков о признаках конца света. Я позволю себе привести достаточно пространный пример из интервью, где нашли отражение все основные мотивы, связанные с Библией в современном крестьянском фольклоре:
Исследователь: А были такие старенькие, кто Библию читал здесь?
Информант: Ну, Библию читал моей мамы отец, и он не только читал, он ее всю наизусть знал, на память, всю знал, ему не надо было читать, она вся была выучена у него. Он умер в первый день Паски в Финскую войну <…>
Исследователь: А что еще он про Библию рассказывал?
Информант: Ну, вот он про Библию мамы говорил… Он когда придет, вот, с бабушкой моей разговаривает. Он жил один, на том краю [деревни] — самый последний дом. И, вот, рассказывал… Но он много говорил так. Вот, говорил, что, вот, сейчас, говорит, и будет Финская война — он знал. И точно Финская война стала. Но Финская война, говорит, она не долго будет. И наши, говорит, их быстро разобьют. А вот после Финской войны будет война с Германией, с германцем — он… с германцем будет война. Вот эта война будет жестокая, и немец придет до самой нашей столицы, вот, он говорил. Будут биться очень долго, будут драться, он все говорил, там ведь в Библии… не то что люди, а будут драться два петуха — белый и красный. Сначала будет побеждать белый петух, погонит, быстро-быстро красного петуха погонит, а потом красный петух разобьет белого, потому что красный петух непобедим. Вот, наши непобедимые. Значит, это будет, красный петух непобедим будет. После этой войны люди будут жить мирно, не будет у них не хватать ни хлеба, ничего, но люди будут жить все в согласии. А потом люди, как он говорил, там, по Библии, разбогатеют или как-то, и будет мир ненавистным, всем будет всего мало, все будут друг другу плохого только желать, и все будут говорить про войну: вот, война, вот, война будет. Но войны очень долго не будет, долго-долго не будет. А потом начнется всемирная война. Но опять же, говорит, по народу глядя, как Господь посмотрит, как народ заслужит, то ли веку прибавит, вообще до двухтысячного году только написан[а] Библия, а после двухтысячно-го года мы уже без Библии живем. И это уже теперь жизнь по народу глядя. Как народ, Господь посмотрит, образумитсы он, или так же он грешный, хуже грешить будет, или вообще он лучше. Тогда если народ образумитсы, значит, веку прибавит. Он сказал: по народу глядя — или прибавлю веку… а мог и убавить веку. Так вот, мы пока живем, но без Библии. А потом, говорит, начнетсы война, но такая война… всемирная, что нигде не будет спасения: ни в горах, ни в воды, ни в лесах нигде — все будет гореть, и земля, и вода, и небо, и на этом конец Библии!
Исследователь: [Нрзб.] без Библии живем?
Информант: А мы сейчас безо всякого… вот, там было в Библии сказано, что церквы закроют, было сказано. Церквы были закрыты, потом было сказано, что церквы будут открыты ненадолго — вот открыты церквы сейчас. Сказали что, там написано, что в городах все небо будет опутан[о] паутиной, а мы: «Господи, когда, паутиной?!» А вот, провода-то… ходят, ведь, ходят, ведь, эти… как… забыла…. троллейбусы-то, дак. Все, говорят, небо опутан[о] паутиной. Железные птицы будут летать — самолеты. До войны же не было этого, а там уже в Библии все было сказано. А теперь мы не знаем, что будет у нас впереди. Что будет, то и будет. А тогда в Библии все было сказано. Сказано было, что будут девицы бесстыжие лицы — уже наголо ходят, и все делают. Девицы бесстыжие лицы. Матери будут пожирать своих детей, было сказано. Пожирают и не раз — абортов-то сколько. Там же в Библии все было сказано.
Исследователь: А кто-нибудь не пытается Библию читать вот сейчас?
Информант: А ее и нет теперь.
Исследователь: И вы не читаете?
Информант: Дак, ее и нет, той Библии. Нет ни у кого. Она, которая была, дак в войну сгоревши. А теперь если какая есть, дак это уже теперешняя, что-то там…
Исследователь: Это не то?
Информант: Конечно, напечатано.
Исследователь: Даже если в церкви продается?
Информант: Дак, а в церкви теперь что печатают, не то.
Второй исследователь: Та была не напечатана?
Информант: Напечатана. Она вот, такая была большая, вот такая, наверное, большая была, и вот такая широкая, толстая, вот, у дедушки моего было48.
Вполне традиционным для крестьянского фольклора рубежа XX–XXI веков является убеждение в «недоступности» Библии. Ее нельзя купить, соседи вряд ли согласятся дать ее на время. Как и в приведенном отрывке из интервью, невозможность приобретения Библии часто объясняется тем, что современные Библии по каким-то причинам являются неправильными. Библия написана, по словам информантов, на непонятном языке: чаще называется славянский, реже — латинский. Даже если информант считает, что Библия написана по-русски, ее чтение все равно требует, по его мнению, особых знаний («Ну Библию читать тоже — ведь кто понимает… понимал. Разбирался. Там же по главам. А кто не разбирался — дак что там? Читай подряд — что там? Там ничего не поймешь. Там надо разбираться»49).
В современном фольклоре можно встретить отголоски представления о том, что чтение Библии приводит к сумасшествию («Кто, говорят, Библию прочитает, пять процентов ума теряет. [Информант смеётся.] На корке [т. е. на обложке] написано»50; «Говорили, что у него бывша всё голова трясла, он дочитал эту Библию, что затряслась голова»51).
Но прежде всего Библия ассоциируется с пророчествами стариков о признаках конца времен. В современных нарративах вывод о грядущем конце света часто опускается и даже не подразумевается информантами. На это обратил внимание в своей работе А.А. Панченко (Панченко 2002: 362)52. Почти риторическим является вопрос о том, действительно ли сельские богомольцы, читая и пересказывая соседям и родственникам Библию, сообщали о паутинах, железных птицах, красном и белом петухах и т. д. Скорее всего, мы имеем дело с еще одним примером фольклорного «зачина», традиционной ссылки на стариков, которая сама по себе уже является частью нарратива.
С другой стороны, «ожидания от книги» — то, что будет из нее вычитано, а в конечном счете и услышано о ней — во многом определяются именно контекстом ее обсуждения. В случае с Библией таким контекстом стали пророчества о последних временах и, судя по всему, именно их искали читатели в тексте Библии. Об этом красноречиво свидетельствуют пометки на страницах старого Евангелия, которое нам показала во время одной из экспедиций жительница д. Суворово-Кончанское Боровичского р-на Новгородской обл. Евангелие когда-то принадлежало ее деду, известному в деревне своей набожностью. Вся книга испещрена подчеркиваниями, сделанными одним и тем же химическим карандашом, но, кроме того, в некоторых местах на полях текста читаются записи, сделанные дедом информантки. Я приведу все пометки, которые были на страницах книги:
[Мк 13]53 Эта 13-я глава предсказана о последних временах что будетъ наземле.
[Лк 21] 21-я глава предсказана что будето на земле въ последнiя времена этого мiра.
[II Петр. 3] Здесь есть св. Пророчество о последнихъ временахъ немного въ обеихъ 2 и 3 й глав
[II Фессал. 2] Эта 2-я глава съ Пророчествомъ объ антихристе опоследнихъ временахъ [этихъ].
[I Тимоф. 3–4] 4-я глава спророчествомъ о последнихъ временахъ.
[II Тимоф. 3] Предсказано въ этой 3-й главы о последнихъ временахъ и какие люди останутся жить
[Там же, внизу страницы] Какие люди останутся жить въ последнiя времена.
[II Тимоф. 3–4 (надпись практически стерта)] Здравое учение Божiе ученiе. [И сверху дописано]: и заповеди и закон Бож[жi]i
[Над заглавием «Откровение святого Иоанна Богослова»] Чтите Господа Бога всъгда и всюду что и плохое встретится радуйтесь.
[Ниже перед началом главы]: Пророчества о последнихъ временахъ.
[Откр. 6–7] откровение роздели надвое розличать последнее время и наказание
[На вырванных, но сохранившихся листах из Евангелия: Мф. 24 (начало надписи стерто)] я глава Предсказана о последнихъ [стерто] света и [нрзб.]
[На обороте задней обложки] Но знайте [все] что Господь Бог Был и Есть скоро [готовится] сдљлать последнее дело еще [стерто] и на [всечун] и [со]крушить своих [вра]гов и противних [к]то не сумеет как [по]каяния принести [нрзб.]
Из тринадцати пометок, сделанных владельцем Евангелия, одиннадцать касаются пророчеств о последних временах. Это значит, что именно их он искал в Библии, или, по крайней мере, именно им придавал особое значение.
В современной крестьянской традиции Европейской России, в тех местах, которые удалены от старообрядческих центров, не существует практик чтения Библии. Этим я не хочу сказать, что Библию в деревне не читают. Особенно в последние годы, когда на территории России активизировалась деятельность и Русской православной церкви, и других христианских конфессий, синодальные переводы Священного Писания и Библии евангелических редакций можно встретить во многих домах в деревне54. Говоря об отсутствии практик чтения, я имею в виду отсутствие языка обсуждения прочитанного и такого социального контекста, в котором прочитанное могло бы оказаться востребованным.
Можно привести множество примеров существования и того, и другого в отношении других письменных текстов. Так, развитие средств массовой информации на рубеже XIX–XX веков приводит к тому, что обсуждение газет становится модным и престижным. Это означает, что чтение газет становится «полезным» и выгодным. С другой стороны, обсуждение газет приобретает регулярный характер среди различных групп населения: газеты учатся обсуждать. Другой пример — современные старообрядческие общины, где распространены практики толкования священных книг (Никитина 1992). И в том, и в другом случае определенные письменные тексты принято обсуждать. Здесь также чтение и толкование книги предстают перед нами как навыки, приобретаемые человеком в процессе социализации. Эти примеры особенно ярки, поскольку в обоих случаях нормативным является не только сам акт чтения, но и конкретный смысл, который сообщество приписывает /отождествляет с читаемым текстом.
Практики чтения — всегда коллективное явление. Это не значит, что чтение и понимание письменного текста возможно только в рамках коллективного обсуждения и человек не способен самостоятельно прочитать и понять текст. Но в той степени, в какой любой человек является частью общества и разделяет с ним определенные убеждения и систему ценностей, любая интерпретация всегда опосредована моделями, принятыми в коллективе.
Вопросы восприятия текста неоднократно рассматривались исследователями в работах по социологии литературы и литературной критике55, но, в отличие от них, меня не интересуют механизмы порождения смысла во время чтения конкретного текста. Говоря о социальной, коллективной природе практик чтения, я имею в виду существование эмпирически наблюдаемых моделей толкования текста: конкретных сюжетов, тропов, риторических фигур, существующих в языке сообщества для описания и обсуждения текста. Библия в русской деревне конца XX века оказывается среди книг, содержание которых не принято обсуждать. Но, в отличие от многих других книг, о ней принято говорить. Такая ситуация вполне объясняется историей распространения Библии в России.
Достаточно жесткая ассоциативная связь между «Библией» и пророчествами о последних временах, а также устойчивые способы описания книги формируются, вероятно, к концу XIX столетия. В это время «Библия» и становится собственно «толстой книгой о конце света». Само слово «Библия» встречается в современных материалах значительно чаще, чем в записях XIX века. Можно предположить, что оно начинает доминировать в крестьянском фольклоре благодаря его широкому использованию в средствах массовой информации и, возможно, миссионерской деятельности 1990-х годов.
Случай с Библией — это яркий пример культурной омонимии, демонстрирующий различия в отношении к, казалось бы, одному и тому же тексту. На самом же деле оказывается, что Библий существует множество и все они имеют только косвенное отношение друг к другу. Библия на полке в библиотеке, Библия в традиции субботников, Библия как предмет христианского богословия, Библия как источник вольномыслия и т.д. В работе 1993 года Кристофер Хилл пишет: «Библия могла иметь различный смысл для разных людей в разные времена и при разных обстоятельствах… Она была огромным сундуком, из которого можно было вынуть все, что угодно» (Хилл 1993: 19). В отличие от К. Хилла я полагаю, что Библия была огромным сундуком, в который все что угодно можно было положить.
Екатерина Мельникова – кандидат исторических наук, сотрудник Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, выпускница факультета Антропологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Научный редактор сборника "Граница и люди: воспоминания советских переселенцев Приладожской Карелии и Карельского перешейка" (Санкт-Петербург, 2005). Сфера научных интересов: антропология памяти и пространства, миграция, история и этнография краеведения. Действующий проект: локальные идентичности советских переселенцев бывшей финской Карелии.
- См.: Романенко 2002: 158.
- До сих пор наиболее скрупулезным описанием деятельности Библейского общества в России остается работа И.А. Чистовича (1899), откуда заимствована основная часть материалов А.Н. Пыпина (2000).
- За время деятельности Библейского общества в России было переведено на русский язык и опубликовано 10000 экземпляров Ветхового Завета и 20000 — Нового Завета (Астафьев 1888).
- В одной из своих работ Н.Н. Покровский замечательно показывает необъективность учета старообрядцев в XVIII веке, зависимость данных статистики скорее от изменений в политике церкви и государства, чем от реальных колебаний численности старообрядцев (Покровский 1973). Безусловно, государственная идеология во многом определяла и топографию сект.
- Полное название: «Святейших патриархов восточно-кафолической церкви грамоты Святейшему всероссийскому Синоду» (1837) и «Святейших патриархов Кафолической восточной церкви послание о православной вере» (1723).
- См. Буганов 2001, Слуховской 1928.
- К сожалению, годы издания книг в деле не указаны.
- За время советской власти отношение государства к церкви и сами религиозные практики в деревне претерпели целый ряд изменений. Здесь можно назвать и смягчение в 1929–30-х годах политики в отношении религии, и открытие церквей на оккупированных территориях во время войны. Тем не менее, потеря церковью своих контролирующих функций, по всей видимости, характеризует весь этот период.
- Впрочем, во многих западных советологических исследованиях «сопротивление власти» приобрело роль основной призмы для рассмотрения повседневной жизни советских граждан. Ср. работу Ш. Фитцпатрик, название которой в оригинале звучит как «Сталинские крестьяне: Сопротивление и выживание в российской деревне после коллективизации» (Fitzpatrick 1994). См. также: Viola 1990.
- Записано в 2004 г. в п. Мельниково Приозерского р-на Ленинградской обл. М., 1928 г. р. (АКК: Oxf/Lev V-04 PF 12 A). Более подробно об этом интервью: Мельникова 2010.
- В период с 1918 по 1990 годы в СССР вышло 13 изданий Библий на русском языке и одно на церковнославянском (1988 г.). Из них одно появилось практически сразу после революции — в 1918 году, еще одно — в 1926. Затем Библии не издавались на протяжении 30 лет. С 1956 года издания выходят с промежутком приблизительно в 10 лет (1956, 1968, 1976 гг.) и затем становятся более регулярными: 1979, 1983, 1988, 1990. Начиная с этого времени в год выходит несколько изданий Библий (Православие 1999).
- Записано в 1999 г. в д. Шилово Хвойнинского р-на Новгородской обл. М., 1927 г.р. (АПЦ: ЕУ-Хвойн-99 ПФ-27).
- Записано в 2001 г. в д. Устрека Мошенского р-на Новгородской обл. Ж., 1927 г.р. (АПЦ: ЕУ-Мошен-01 ПФ-32).
- Эти же «критерии» при отборе книг использовались и в конце XIX века (см.: Бобров 1903: 4).
- Записано в 2003 г. в д. Менюша Шимского р-на Новгородской обл. Ж., 1930 г.р. (АПЦ: ЕУ-Шимск-03 ПФ-2).
- Записано в 1999 г. в с. Мелковичи Батецкого р-на Новгородской обл. Ж., 1930 г.р. (АПЦ: ЕУ-Батецк-99 ПФ-39).
- Записано в 2001 г. в д. Устрека Мошенского р-на Новгородской обл. Ж., 1923 г.р. (АПЦ: ЕУ-Мошен-01 ПФ-36).
- Записано в 2001 г. в д. Устрека Мошенского р-на Новгородской обл. Ж., 1910 г.р. (АПЦ: ЕУ-Мошен 01 ПФ-5а)
- Любопытно, что соврешенно аналогичные как по структуре, так и по топике тексты были записаны в конце XX века у индейцев Северной Америки (Mould 2002). В «техногенных пророчествах», как их называет исследователь, используются та же метафорика, что и в русском фольклоре: «паутина, которой будет обтянуто небо» и «железные птицы» — основные мотивы эсхатологических нарративов, и та же риторика: пророчества стариков описываются как сбывшиеся. Возможность заимствований, как, впрочем, и общих корней в фольклоре индейцев чокто и русских крестьян представляется проблематичной. В то же время и объяснение параллелей только типологическим сходством вряд ли может быть удовлетворительным с учетом того, что в расказах используется идентичная лексика. К сожалению, ни мне, ни Тому Маулду не удалось найти других сравнительных материалов.
- В квадратных скобках указывается текст, рядом с которым сделана надпись. В тексте пометок оставлены орфография, синтаксис и пунктуация оригинала.
- Любопытно, что первые встречаются гораздо реже, чем вторые, хотя только за период с 1990 по 1993 годы вышло 16 изданий Библии в синодальном переводе и 33 издания Нового Завета.
- Наиболее значительными работами в области исследования восприятия текста читателем до сих пор остаются публикации В. Айзера (Iser 1974, 1978, 1989) и Р. Шартье (Chartier 1987, 2002 [1995], 1995).
