Введение
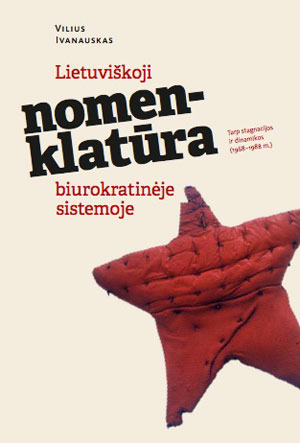 В историографии исследования последнего десятилетия советской системы связаны с несколькими основными темами, при этом особое внимание уделяется выявившейся в брежневский период эрозии советской системы, и развал советской системы связывается в том числе и с имевшими место в рамках системы этническими процессами, которые наиболее часто рассматриваются при анализе генезиса советской Литвы. В этом контексте определение литовской советской власти представляется достаточно сложным: чаще всего она представлена лишь как активная защитница советской системы, не заинтересованная в смене режима, тем более, что режим гарантировал ей могущество, признание и привилегии. Именно на эти аргументы опираются представители тоталитарного направления исследований в области советологии, и эта точка зрения в настоящее время доминирует в литовской историографии.
В историографии исследования последнего десятилетия советской системы связаны с несколькими основными темами, при этом особое внимание уделяется выявившейся в брежневский период эрозии советской системы, и развал советской системы связывается в том числе и с имевшими место в рамках системы этническими процессами, которые наиболее часто рассматриваются при анализе генезиса советской Литвы. В этом контексте определение литовской советской власти представляется достаточно сложным: чаще всего она представлена лишь как активная защитница советской системы, не заинтересованная в смене режима, тем более, что режим гарантировал ей могущество, признание и привилегии. Именно на эти аргументы опираются представители тоталитарного направления исследований в области советологии, и эта точка зрения в настоящее время доминирует в литовской историографии.
Такая оценка часто является нормативной, факт пребывания во власти в советское время автоматически соотносится с обязательством номенклатуры защищать status quo (или, по меньшей мере, саму систему). Подобная оценка не включает объяснения социальной идентичности и исключает аспект бюрократической рутины, раскрывающий привычную двуликость официальных решений и реальной жизни (так, на практике наблюдалось отмежевание номенклатуры от идеологических ценностей и отдельных инициатив центра). Анализ защиты национальных интересов в советское время, часто игнорирующий роль поддерживавшей эти интересы литовской советской власти, выглядит также слишком односторонним. Специфика общения с Москвой (центром) властей ЛССР, стремившихся проводить важные для республики экономические и социально-культурные проекты, свидетельствует, что усиление этнических процессов в советское время правильно связывать и с активно проводимыми местной властью процессами модернизации республики, равно как и процессами создания социального благополучия. Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой попытку расширить нарратив литовской советской истории путем включения более широкой области социальной истории, в которой вакуум политических действий позднего советского периода1 дополняют ценностные мотивации, повседневные привычки, рутина, раскрывающие шизофреническое существование советской культуры: на уровне риторики – превращение идеологии в непререкаемый авторитет, на уровне практики – демонстрация большего доверия к личным связям, чем к идеологическим целям и советскому планированию. Все это определяет своеобразие советского быта.
Официальная поза теряет какую бы то ни было гибкость и оказывается заложницей единственной (и недоступной для интерпретации!) догмы, пропаганды застывшего могущества и ритуалов управления, в то время как реальные решения все чаще уходят к облепившим структуры власти социальным сетям и к неформальному кругу номенклатуры. Абсолютно очевидно, что подобная ситуация стала более привычной после неудачи Пражской весны 1968 г., означавшего крушение взращенных во время хрущевской оттепели надежд поколения шестидесятников построить социализм с человеческим лицом, и развитие советской системы оказалось в полной зависимости от сохранения статуса «нового класса» и заинтересованности в усилении могущества бюрократии.
Подобные рассуждения, в ходе которых возникает противоречие между конформистской позицией литовской номенклатуры и проявлявшимися в бюрократической среде «национализмом» и «динамикой», требуют более детального анализа при определении роли советской номенклатуры и отношений с советской системой во время советского периода, включая не только различные аспекты политической истории, но и истории социальной, равно как и истории повседневной жизни. В работе рассматривается деятельность номенклатуры позднего советского периода (1968–1988 гг.), когда проявилась эрозия и стагнация уже давно «установленного» и «унаследованного» советского режима, что позволяет наблюдать наличие либо отсутствие в среде литовской номенклатуры поворота к автономии и стремления оградить себя от стагнационного управления.
Основной объект исследования – литовская советская номенклатура и ее бюрократическое окружение в Литве 1968–1988 гг. Основное положение работы – тезис о структурной неоднородности литовской советской номенклатуры и связанной с этой неоднородностью неравной заинтересованностью различных групп номенклатуры в поддержке и стабильности советской системы. Анализ преследовал две основные цели: 1) выяснить, каким образом литовская власть позднего советского периода стилем правления и проводимой политикой сливалась (и сливалась ли) с доминирующим дискурсом советской системы и протекционируемыми инициативами центра, а также с реализуемой политикой советизации; 2) рассмотреть, какое влияние оказывало отношение с системой отдельных групп номенклатуры на деятельность по поддержанию, стимулированию или ограничению национальной идентичности и благосостояния республики.
Хронологические рамки. Хронология исследования охватывает период 1968–1988 гг., анализируются две различные эпохи существования советской системы – брежневский период стагнации (зрелый социализм) и период политики перестройки, начатой М. С. Горбачевым в 1985 г.
Методы исследования. Объект исследования анализируется в междисциплинарной перспективе, т.е. методы исследования и интерпретация основываются не только на анализе исторических событий, но и учитывают аспекты, демонстрирующие рутинную сторону неформальной повседневной жизни номенклатуры. Методы исследования, используемые в области устной истории и антропологии, дополняют и поясняют привлекаемые в работе данные архивных документов.
Историография и теория
Появившиеся на Западе во время холодной войны исследования советской номенклатуры ставили целью развенчать миф о преодолении в советском обществе классового неравенства. Эмигрировавший на Запад югославский коммунист М. Джилас, говоря о «новом классе», утверждал, что в социалистическом обществе сформировался привилегированный социальный слой номенклатуры, которому доступны лучшие, по сравнению с другими членами общества, возможности2. Известным исследователем советской элиты является и М. С. Восленский. Описывая бюрократическую структуру советского государства, он дал новому классу название «номенклатура», введя, таким образом, это понятие в сферу исследований иерархии советского общества3.
В исследованиях, связанных с историей Литвы, номенклатура прежде всего оказывается связанной с вопросом ответственности за становление советской системы в Литве. Поэтому понятие «номенклатура» неслучайно связывается с тоталитарной интерпретацией. Последняя определяет советскую номенклатуру как инструмент тоталитарной системы, который, стремясь к реализации целей идеологической системы (а часто и личных целей), помог взять под контроль государства все ресурсы. В области исследований советской номенклатуры Литвы эта традиция представлена исследованиями К. Антанайтиса4. Ученый, детально описывая состав номенклатуры и его изменения на протяжении советского периода, представляет номенклатуру не только как форму управления, но и, раскрывая социальный аспект явления, как привилегированный правящий класс. В основе анализа K. Антанайтиса лежит теория тоталитаризма. Продемонстрированная замкнутость номенклатуры не оставляет места для более широких размышлений о слиянии номенклатуры с местным контекстом и с предъявляемыми к ней требованиями в области идеологии и промышленности.
Вопрос о сущности номенклатуры отчасти пытались решить и другие историки, которые, специально не анализируя номенклатуру, пытались, рассматривая факт оккупации Литвы, показать роль номенклатуры в укреплении коммунистического режима. В подобных исследованиях обращает на себя внимание, прежде всего, понятие «коллаборационист». Начиная с 1960-х годов говорить о «республиканских властях» как о коллаборационистах становится достаточно проблематично, понятие «коллаборационисты» замещает понятие «приспособленцы». С этой точки зрения литовская номенклатура также рассматривается как один из инструментов СССР5. Конформистская позиция номенклатурщиков отражена в монографии В. Тининиса «Советская Литва и ее деятели»6. В работе подчеркиваются черты поколения 1950-х годов: менее идеологизированные, более прагматичные, но вместе с тем послушные указаниям Москвы личности.
Таким образом, в литовской историографии оценка номенклатура чаще всего связана с вовлеченностью последней в поддержку политического режима, но появившиеся в последнее время претендующие на статус исторического источника воспоминания современников предлагают расширение мнения о деятельности литовской номенклатуры за счет лоббирования значимых для Литвы экономических и социальных изменений. Основание для такого анализа представляет не только взгляд «изнутри», но и исследования в области социалистических обществ (в том числе и Литвы). Выводы авторов исследований позволяют наблюдать черты «национального коммунизма», характерные для стремившихся к определенной независимости от влияния Москвы отдельных периферийных областей.
Национальный коммунизм. Понятие «национальный коммунизм», иногда опосредовано, обсуждается в работах нескольких авторов. Одними из первых о «национальном коммунизме» заговорили, анализируя советскую систему, исследователи ислама А. Беннигсен (A. Bennigsen) и Э. Вамбуш (E. Wambush), которые обратили внимание на явление мусульманского национализма сосуществовавшего с коммунизмом в Средней Азии7.
Исследуя социалистическую Румынию, анторополог К. Вердери (K. Verdery) наблюдала и возможный ответ периферийных руководителей на идущие из центра стратегии8. Приводимый К. Вердери пример Румынии, демонстрирующий явление «социалистического национализма», может быть осознан как противостояние модели послушной центру (Москве) местной власти. Анализ темы советского федерализма, проведенный советологом П. Ройдером (P. Roeder), показал, что центральная власть в рамках советской системы создала условия для формирования явления этнофедерализма в результате формирования этнических элит (номенклатуры) в отдельных советских республиках. Этническая элита, оставаясь лояльной по отношению к официальной политике, в то же время стремилась к обеспечению социально-экономического благосостояния своего региона. Эта модель лучше всего описывает ситуацию, сложившуюся в республиках Прибалтики и Кавказа9.
Подобные наблюдения оказали влияние и на работы других исследователей, рассматривавших, в том числе, и ситуацию в Литве, например, В. Кемпа (W. Kemp)10 и Г. Смита (G. Smith)11. В ходе анализа существовавших в рамках советской системы возможностей поддержания национальной культуры некоторые постревизионисты сделали и следующий шаг, указав на преимущества, предоставляемые системой, местным кадрам советских республик. Т. Мартин (T. Martin), Ю. Слезкин (Y. Slezkine) и А. Вайнер (A. Weiner) признают, что официальная политика способствовала развитию в СССР национального самосознания, которое связывалось с процессом советской модернизации12.
Бюрократическое окружение: от процедур к личным связям. Советская система постсталинского периода, столкнувшись с теневой экономикой и неэффективностью производства, была пропитана равнодушием, которое в брежневский период сменил воображаемый оптимизм, «ведущий» к созиданию социалистического общества. Употребление понятия «развитого социализм», по сути, является признанием того факта, что в условиях советской системы социализм вряд ли может быть другим. Т.е., идеология сохранялась как определенный авторитетный дискурс, за которым скрывалась сильно отличающаяся от лозунгов действительность.
Алексей Юрчак (A. Yurchak) описывает такое положение вещей как сдвиг деятельности (performative shift), когда, при демонстрации неусыпного внимания к идеологическим правилам, ритуалам и планам, на повседневном уровне растет количество их интерпретаций и появляется возможность переговоров и преследования своих целей. Этот контекст позволяет дистанцироваться от положений тоталитарной парадигмы советологии, утверждающих, что советская система представляет собой определенное «верхами» общество, основными инструментами формирования которого являются идеология и партийный контроль. Тоталитарная парадигма может быть противопоставлена основанной на социальных методах ревизионистской точке зрения, считающей подобные тоталитарные сигналы лишь неудачными по сути попытками более полной детерминации общества. Отдельные группы, принадлежавшие к различным структурам, и в условиях тех лет умудрялись находить возможности создавать и развивать отличные от обозначенных формальными целями направления деятельности.
Некоторые теоретики описывают подобное состояние как свойство системы, свидетельствующее о «слабости системы в противовес силе личных связей»13. Л. Ломниц (L. Lomnitz)14, изучая растущую роль неформальной стороны управления, критиковал модель формальной бюрократии М. Вебера и говорил о том, что, по сути, неформальные формы управления помогали решать проблему ресурсов, также, как блат позволял частным лицам получать доступ к дефицитным товарам и услугам.
В случае советской системы большую роль при личных связях играет вопрос доверия. Следует подчеркнуть не столько слабость советской системы, сколько широко распространенное недоверие к формальному бюрократическому регулированию. Недоверие к публично демонстрируемым ритуалам и правилам управления разрушало действенность, и заставляло советских бюрократов самого разного уровня опираться на более личные, пусть и неформальные, методы управления, развивая вместе с тем социальное знание о способах оптимального действия. Эти способы на практике в условиях развитого социализма замещали марксистско-ленинскую теорию практической смекалкой.
Поздний социализм. Некоторые социальные историки и антропологи выделяют отдельные эпохи советского периода. Так, постревизионист С. Коткин (S. Kotkin) говорит об определяющей цивилизацию сталинизма ориентации на прогрессивность15, в то же время А. Юрчак выделяет поздний социализм, связывая начало этого периода с постсталинским десятилетием. Согласно А. Юрчаку, основной признак позднего социализма – проявившаяся стагнация и всеобщее разочарование в идеологии и возможностях прогресса при сохранении идеологии в качестве обязательного авторитета официального дискурса16. В условиях правления Л. И. Брежнева эта модель социализма означала признание в невозможности создания другой, более совершенной в сравнении с существующей, модели советской системы17.
Специфику эпохи позднего социализма, характерную для социалистической Польши, отмечает польский исследователь А. Валицкий (A. Walicki). А. Валицкий считает опасным оценивать коммунизм исключительно по спаду периода «реального социализма» и отождествлять коммунизм с монополизацией политической власти для обеспечения личных интересов потерявшей идеологическую ориентацию номенклатуры, таким образом, упуская из виду понимания коммунизма того периода, когда его влияние было особенно велико и когда идеи коммунизма вдохновляли революционно-тоталитарное движение и стали идеологическим обоснованием утверждения чисто тоталитарного государства18. A. Валицкий признает, что номенклатура времен Э. Герека была деидеологизирована, и предлагает различать более ранний период строительства коммунизма и период фактического отказа от идеалов коммунизма, и последовавшей период деидеологизации и фактической декоммунизации19.
Историк П. Картер отделяет возврат в брежневский период от идеологических позиций предыдущих руководителей государства к идеологическим корням режима, поскольку «коммунизм» в брежневский период позиционировался не только как основная ось развития, но и как основание любых других действий20. Понятие «развитого социализма», соотносимое с этой идеологической линией, после чешских событий 1968 г. появляется и активно используется в публичной риторике Л. И. Брежнева и его соратников, употребление этого термина окончательно закрепляется в начале 1970-х годов в речах партийных руководителей и в научной терминологии. Власти ввели термин «развитой социализм» в новую Конституцию СССР 1977 г.21.
И все же система ценностей центральной власти, основанная на идеологическом давлении и сохранении управленческих структур, оказалась неспособной предотвратить появление в 1980-х годах экономических и социальных проблем. Поэтому, как считают многие исследователи, для эпохи стагнации характерен не только растущий контроль, но и экономический и ценностный кризис самой системы. Спад советского хозяйства, начавшийся в 1973–1974 гг., уже к 1980 г. выявил кризис советской экономической системы22, где наряду с плановой экономикой укрепилась и так называемая теневая экономика. Основанием последней стал доступ к «дефицитным» товарам, нужным связям и обеспечению в обход официально установленных правил. В свою очередь, кризис выявил окостенение бюрократического аппарата советской системы, мешающее принять решения, направленные на идейно-экономическую модернизацию системы, и тем самым выгодное правящей элите (М. С. Восленский)23. Как показал А. Штромас, в подобной системе главенствует протежирование окостеневших моделей управления и привилегированного клана (старых партократов)24.
Источники
Интервью и воспоминания. В 2003–2007 гг. и в 2010–2011 гг. в Вильнюсе и Алитусе при помощи метода антропологического анализа были проведены 44 полуструктурированных интервью (продолжительность 1,5–2 часа) с бывшими представителями номенклатуры, их родственниками, отдельными представителями бюрократии, а также со свидетелями, испытавшими на себе влияние номенклатуры. В работе достаточно часто используются воспоминания: изданные в последние годы мемуары советских должностных лиц высокого ранга, деятелей Саюдиса, воспоминаниях других авторов о деятелях исследуемого периода25. Несмотря на субъективность, воспоминания советских деятелей, равно как и других свидетелей советского периода, по форме и содержанию близки к этнографическим интервью, и как тексты свободной структуры, в которых наблюдается стремление оправдать прошлое, предполагают критическую интерпретацию.
Aрхивные источники. Архивный материал был собран в трех литовских и трех российских архивах. Рассматривались источники, раскрывающие вопросы партийного управления, промышленного и институционального администрирования, управления культурой. Хронологические рамки собранного архивного материала 1968–1990 гг.
Структура и аналитическая часть книги
Монография состоит из четырех частей, порядок следования которых определяется проблематикой, не хронологией.
В первой части, состоящей из трех глав, рассматривается специфика литовской номенклатуры как отдельного слоя общества с указанием как расположения системы номенклатуры на формальном уровне (списки номенклатуры), так и ее социальной сущности, различных линий номенклатуры, определенных связями в рабочем или личном пространстве, а также влияние повседневного окружения на стабильность номенклатурных связей.
В первой главе дается определение номенклатуры на основании ее стандартного определения. Номенклатура описывается согласно ее назначению в советском обществе: поддержка находящейся под контролем партии системы отбора и карьерного роста руководящих работников. Формирование номенклатуры было определено потребностью в контролируемых специалистах для проведения идеологической и организационной работы. Включенные в списки номенклатуры лица, подтвердившие лояльность и верность советскому строю, должны были взять на себя ответственность за проведение декларируемой политики. ЦК КПСС, ЦК КПЛ, парткомы городов и районов имели в своем распоряжении кадровые списки руководящих работников и были обязаны контролировать движение кадров. На республиканском уровне наиболее важной была основная номенклатура ЦК КПЛ, которая в свою очередь состояла из отдельных номенклатур Бюро, Секретариата и отделов ЦК26. Списки в различные периоды могли быть не равны друг другу – отдельные должности добавлялись или элиминировались, но сам принцип создания списков практически не менялся.
Наряду с основной номенклатурой ЦК КПЛ составлялись учетно-резервные списки номенклатуры, включавшие руководителей подразделений различных институций, предприятий и организаций среднего масштаба, а также руководителей различных городских и районных служб и т.д. Списки учетно-резервной номенклатуры позволяли контролировать движение руководящих кадров и, располагая дополнительной информацией, планировать карьеру руководителей, а также проверять соответствие предполагаемой должности, обсуждая повышение того или иного лица по службе. В списки номенклатуры парткомов городов и районов включались руководители ключевых предприятий, организаций и институций, их заместители, руководители подразделений и секретари первичных парторганизаций.
Составление списков номенклатуры предполагало согласование мнений на различных уровнях. Так, вопросы, связанные с республиканскими руководителями высшего звена, входившими и в номенклатуру ЦК КПСС, и в основную номенклатуру ЦК КПЛ, требовали согласование точек зрения и республиканских властей, и должностных лиц ЦК КПСС. Также обстояло дело и с руководящими кадрами городов и районов – в этом случае требовалось согласование мнений городских и районных парткомов и отделов ЦК КПЛ, курировавших соответствующие направления. На протяжении нескольких десятилетий наблюдалась тенденция увеличения кадров номенклатуры и пополнение списков новыми должностями, что свидетельствует о росте влияния партийных органов в управлении республики. Расширение списков номенклатуры говорит о том, что партийная структура формально вобрала в себя практически все руководящие должности в республике, а иногда и должности специалистов, определив, таким образом, не только обязательную принадлежность занимающих эти должности лиц коммунистической партии, но и включая их в идеологическую и политическую конъюнктуру советской системы. Имея в виду тот факт, что сотрудники, входившие в систему номенклатуры, обязательно проходили партийный отбор и часто оставались в списках до завершения карьеры, можно говорить о советской номенклатуре как о достаточно закрытой группе, для которой с одной стороны были характерны особые личные качества, а с другой – нерядовые возможности и привилегии27.
Во второй главе показана возможность анализа номенклатуры как социального явления, для которого характерны личные и рабочие связи, равно как и социальная общность. Отмечается возможность дробления номенклатуры на более мелкие социальные образования, которые на основании свойственных им различий и связей могут быть описаны с помощью понятия социальные связи. Государственные и партийные институции, а также их структурные подразделения, действующие профсоюзы, отдельные предприятия и организации являлись тем пространством, которое определяло социальные связи. Отдельные линии указывают направление рабочего и личного общения различных должностных лиц, их личные «связки» и маневрирование в рамках существующих связей в личных и коллективных интересах.
Прежде всего, конструирование социальных связей номенклатуры шло по принципу партийной иерархии за исключением нескольких социальных сетей: 1) главного руководства (руководители республики), 2) руководителей высшего ранга, 3) партийных деятелей среднего ранга. Можно выделить группы «аграриев», «энергетиков», «строителей», «промышленников», «переработчиков», которые объединяли лиц, работавших в различных партийных институциях, министерствах, комитетах или на уровне совмина, курировавших и администрировавших институции схожего направления деятельности.
Распределение социальных сетей тесно связано с локальным пространством. В данном случае в одну социальную сеть объединялись руководители партийного комитета, исполнительного комитета, важнейших предприятий, заводов, фабрик, колхозов (совхозов), а также значимых организаций. Большинство принадлежавших номенклатуре лиц являлось членами нескольких социальных сетей: «локальные» сети пересекались с «периферийными» и «партийными», соответственно «периферийные» сети пересекались с «институциональными» (и технократов, и партократов) и «локальными» сетями. На то, что модель социальных связей является исключительно важной особенностью номенклатуры, указывают и социальные ритуалы28, которые, объединяя частный уровень с общественным пространством, помогали как интегрировать номенклатурщиков нового отбора в уже существующую социальную сеть, так и обеспечивали более тесное общение уже существующих членов. Можно выделить следующие ритуалы личного общения номенклатуры: охота и рыбалка, участие в публичных праздниках, общение между соседями, дружба домами.
В третьей главе описываются структурные черты номенклатуры как социальной группы. Несмотря на то, что номенклатуру составляло достаточно большое число перекрывающих друг друга, а иногда и конфликтующих между собой социальных сетей, номенклатура может быть разбита на несколько основных групп, различающихся капиталом29: технократы, партократы и научно-культурная номенклатура. Культурный капитал включает пользу, обоснованную в большей степени знаниями, рабочими навыками, компетенцией и образованием индивидов, придающими лицу или группе лиц социальную ценность. Символический капитал определяет в большей степени аспекты престижа и положения в обществе. Различные типы капитала связаны между собой. Часто особенности одного усиливают особенности другого капитала (так, социальные связи помогали утвердиться в системе номенклатуры).
Были выявлены типичные группы номенклатуры, для которых характерен определенный тип капитала. Движущей силой технократов30, работавших в сфере производства, были не идеологические установки, а реализация интересов и развитие управляемых ими отраслей производства или предприятий, использование новых технологических решений. Поэтому технократы получали возможность приобрести нерядовой опыт управления хозяйством, означавший основанный на специальных знаниях культурный и определявшийся особо тесными связями со средствами производства экономический капиталы (равно как и опыт исключительного потребления).
Являясь «собственниками системы», партократы зависели исключительно от более высоких институций партийной иерархии, но для этой группе необязательно была свойственна эффективность деятельности. Их сила – в верности партии, последовательном бюрократическом служении. Партократы, занимавшие высокие посты, обладали политическим капиталом и были способны через доступные им каналы партийного отбора, пропаганды, агитации и планового управления хозяйством закреплять идеологические нормы в общественном пространстве.
Еще одну специфическую структурную группу составляли номенклатурные интеллектуалы (деятели культуры). Они не только аккумулировали знания, компетенции и культурные ценности, но и, пользуясь привилегированным положением, формировали и транслировали различные идеологические дискурсы31. Эта группа, хотя и поддерживала связь с вышестоящей партийной властью, обладала ценностью благодаря распространению отдельных идей и поддержанию символического капитала и неслучайно оказалась между не всегда совпадавшими в реальности политическими интересами и идейными образами. В дискурсе точки зрения на систему и ее изменений эти роли становятся необычайно важными, формируя позиции номенклатуры в контексте политических событий.
Вторая часть монографии в основном посвящена рассмотрению использовавшихся литовской номенклатурой способов и методов управления, а также особенностям реализации инициатив центра. Проведенное исследование позволяет наблюдать не только вторжение на республиканский уровень «импортированных» идей, но и их адаптацию или отторжение в действиях номенклатуры.
В четвертой главе рассматривается специфика управление сельским хозяйством и обстоятельства начавшегося в 1980-х годах создания агрономического комплекса. Сельское хозяйство в советское время было наиболее широко репрезентируемым направлением деятельности республики, и с этим образом отождествляли себя и республиканская власть, и общество. В рассматриваемый период обращают на себя внимание реализация инициативы укрупнения хозяйств и стратегия сохранения индивидуальных хозяйств.
Преимущества укрупнения сельского хозяйства путем расширения хозяйств, а также использование других способов получения дивидендов масштабной экономики обосновывалась опытом стран Запада. В 1974 г. ЦК КПСС утвердило направление, предусмотрело концентрацию и специализацию отраслей сельскохозяйственного производства, а также развитие межхозяйственных связей32. Тем не менее, укрупнение хозяйств в Литве в то время трактовалось как «гигантомания», чуждая традициям сельского хозяйства республики, тем более, что укрупнение хозяйств могло привести и к перемене образа жизни в литовской деревне – хозяйства должны были приобрести черты промышленных предприятий и дистанцироваться «от человека». Неслучайно в вопросе укрупнения сельского хозяйства разделились и мнения авторитетов (например, точки зрения проф. А. Буйвитиса и проф. С. Васинаускаса). Неустойчивая позиция по вопросу укрупнения сельского хозяйства привела к отсутствию поспешности в реализации идеи концентрации хозяйств: отдельные хозяйства были укрупнены, хотя и в несколько меньших в сравнении с желанием Москвы масштабах.
Позиция советской власти в отношении личных хозяйств также была двусмысленной. Центр призывал передать коллективным хозяйствам как можно большую часть сельскохозяйственного производства, но более трети сельхозпродукции республики производилось личными хозяйствами33, притом, что личные хозяйства занимали лишь около 3 % сельскохозяйственных земельных угодий. Образовалась общность интересов республиканской власти и владельцев личных хозяйств. Личные хозяйства часто оказывались более эффективными в выращивании продукции, в тоже время общественными хозяйствами было достаточно трудно управлять: контролировать правильное расходование средств, качественно и результативно организовать работу.
Создание агропромышленного комплекса было одной из основных структурных реформ сельского хозяйства страны в 1980-х годах. Основанием этих реформ Центра было стремление укрупнить колхозы и совхозы и ввести в управление сельским хозяйством методы администрирования отраслей промышленности. Создание комплекса часто воспринималось как «чуждый», «вредный», а не как эффективный проект центра. Перейдя работать во вновь созданные управления агропрома, отдельные руководители, сохраняя структуру наработанных связей и рабочих отношений, использовали рычаги бюрократического управления для противостояния реальной интеграции сельского хозяйства Литвы в структуру агропромышленного комплекса СССР и растущей централизации.
Пятая глава охватывает случай развития предприятий топливно-энергетической промышленности. Рассматриваются значение и обстоятельства строительства Игналинской АЭС и Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. В процессе строительства этих предприятий наблюдалось столкновение позиций местных институций и отдельных специалистов с позициями союзных министерств. Строительство обоих объектов, начиная от выбора площадки и заканчивая расширением мощностей, сопровождалось достаточно бурными дискуссиями и длительным процессом согласования мнений.
Несмотря на то, что возможность развития атомной энергетики была обсуждена Советом народного хозяйства, а идея строительства АЭС в Литве, поставленная Академией наук ЛССР34, была конкретизирована в 1968 г., с ростом вовлечения энергетики республики в союзные структуры энергетики (Северо-Западная энергетическая система) и передачей курирования вопросов энергетики союзным институциям заинтересованность республиканских властей в строительстве АЭС в Литве уменьшилась (предпринимались и попытки отозвать строительство атомной электростанции). Республиканские власти практически не вмешивались в решение организационных вопросов и дискуссии, связанные с расширением АЭС – проект считался чужим. Большую активность продемонстрировали ученые – были выявлены тектонические разломы и сделан вывод о возможности строительства АЭС мощностью лишь в 4.5 млн. кВт (первоначально планировалась мощность в 6 млн. кВт).
При строительстве нефтеперерабатывающего завода также возникли проблемы с выбором места строительства, кроме того, оказалось проблематичным своевременное завершение строительных работ. Сама идея строительства завода не вызывала серьезных возражений в Литве, но выбор места строительства оказался достаточно сложной проблемой. Сначала как возможный вариант обсуждался Вевис, который был заменен на Юрбаркас и, позже, – Мажейкяй. Вариант Вевиса был признан неподходящим по причинам близкой расположенности к Вильнюсу и возможной стимуляции миграции рабочей силы из других республик, в случае Юрбаркаса были высказаны опасения о возможном нанесении значительного вреда природе. Мажейкяй казался наиболее приемлемым вариантом при оценке вышеназванных аспектов, поэтому республиканские «промышленники» убедили союзное министерство изменить решение о месте строительства завода.
В шестой главе рассматривается политика усиления роли русского языка в системе республиканского образования в 1980-х годах. После ташкентских конференций, проходивших в 1980-е годы, идея усиления обучения русскому языку была выдвинута на союзном уровне, реализация идеи проводилась через аппарат системы образования. Предусмотренные меры на уровне директив и постановлений реализовывались достаточно быстро. В то же время стороны, в администрировании области образования возможности русского языка ослаблялись противодействующим усилению русского языка «национальным» аспектом, поддержкой в спорных ситуациях позиций литовского языка, ограниченностью передаваемой в центр информации. Бюрократическое окружение не поощряло претворение в жизнь политики продвижения русского языка, частично «амортизируя» интенсивные требования центра в этой области: Министерство образования ЛССР не форсировало реализацию требований и инструментов и все больше внимания уделяло обучению литовскому языку.
В третей части рассмотрена идеологически-социальная адаптация номенклатуры. В отличие от рассмотренной во второй части адаптации к инициативам центра, исследование идеологически-социальной адаптации опирается не на анализ событий, но на анализ рутинной работы номенклатуры, ее повседневную деятельность, раскрывающую устоявшиеся модели бюрократического действия и характер приспособления к системе. Исследование, в ходе которого оценивался контекст управления республикой в 1970–1980 годах, принимает во внимание ужесточение идеологии, неэффективность плановой экономики и недостаточного потребления. Данная ситуация оценивается при рассмотрении связей на локальном, республиканском и центральном уровнях.
В седьмой главе на примере города Алитус рассматривается локальный уровень. Алитус является типовым городом, пережившим советскую индустриализацию и модернизацию, и несет следы не только управления производством, но и черты культуры советского периода. Обращает на себя внимание формирование локальной среды взаимозависимыми группами номенклатуры, часто связанными не только рабочими, но и создающими «семейственность» (аспект самоидентификации) личными, соседскими отношениями, ограждающими эту группу от остального населения Алитуса. Внутренние взаимные обязательства номенклатурной среды явились определяющим фактором создания добавленной стоимости города, особенно в социальной и культурной сферах, а также в сфере обеспечения. Анализ локальных связей позволяет выделить неформальную бюрократическую рутину (стратегии), служившую основой проявления социальных связей.
В восьмой главе рассматривается республиканский уровень. Республиканский уровень позволяет наблюдать различные требования в области идеологии и планирования, а также проследить, какое давление оказывалось при реализации этих требований. Предпринимались попытки вторжения не только в рабочее, но и в личное пространство принадлежавших к номенклатуре лиц (явление паноптикума). Идеологические требования были особенно ощутимы в среде работников культуры, основная деятельность которых была непосредственно связана с идеологическим полем: генерирование идей, их администрирование и мониторинг. Подобное положение вещей в большей степени было характерно для 1970-х годов – в период правления Л. И. Брежнева возобновилось усиление идеологии.
Так, основное внимание уделялось контролю творческой деятельности писателей, при этом контроль осуществлялся не только внешними органами, но и самим литературным окружением: руководством Союза писателей, редакций и издательств. Следует отметить, что с целью четко установить дозволенные рамки творчества и администрирования в области культуры применялись определенные санкции к писателям, отличавшихся более либеральной позицией, тем, чье творчество было более свободным, открытым, раскрывало национальные идеи. Подобная ситуация отличалась от той ситуации хрущевского периода, предлагавшей гораздо больше возможностей для творчества. Республиканские власти стремились осуществлять идеологический контроль самостоятельно, избегая вмешательства центральных властей и опираясь на местных идеологов, цензоров, сотрудников органов безопасности, а также непосредственно на руководителей учреждений культуры. Таким образом, проводился принцип культурной автономии – власти старались справиться самостоятельно, но при этом, перенимая модели центра, ужесточали идеологические требования, часто превышая ожидания центральных властей и существенно ограничивая культурную деятельность местной интеллигенции.
Условия существования пространства культуры привели к усилению эзопова языка – символы, метафоры и намеки расширяли границы официально дозволенного. Социальные связи отчасти амортизировали официальные требования и снижали напряжение. В среде республиканской номенклатуры сложилась определенное положение адаптации к существующему состоянию системы: знание правил бюрократического поведения позволяло тайно преследовать свои интересы или интересы соответствующей отрасли производства, при этом было особенно важно сохранять декларативный уровень.
Отношения с центром рассматриваются в девятой главе. Анализируются столкновение и согласование реализации плановых задач и контроля капитальных вложений (интересы центра) и развития отдельных отраслей хозяйства республики. Это преимущественно уровень деятельности руководителей-технократов, начиная Советом Министров и министерствами и кончая различными службами и предприятиями союзного подчинения. Подобное общение (в зависимости от интенсивности) обычно находилось под контролем секретарей ЦК, курировавших отдельные области. При этом у технократов в общении с Москвой подчас было больше возможностей маневрирования, что объяснялось усилением позицией республиканских министерств в планировании народного хозяйства и сложностью производственной деятельности. На технократическом уровне наблюдалась конкуренция между отраслями производства.
Целью конкурентной борьбы были преимущество и вес в управлении хозяйством, при этом использовались и поддержка республиканских властей и хорошие связи с центральными службами. Так, сильные позиции занимали «аграрии» и «строители», в тоже время «промышленники» чувствовали гораздо большую, в сравнении с другими группами «производителей», опеку со стороны союзных министерств. Выбивание республиканскими технократами у центра сырья и стремление к принятию удобных для республики решений стало хорошо усвоенной стратегией (часто применялся принцип «переноса запятой», когда для получения нужного результата бюрократы центра меняли сумму ассигнаций). Следует отметить рост структурной зависимости технократов от союзного уровня, что было обусловлено сырьем, технологиями, специальными компетенциями, знакомствами, союзным подчинением и сбытом продукции. Зависящая от центра, но в тоже время ориентированная на практику позиция способствовала формированию своеобразной новой, более динамичной конъюнктуры, и, отчасти в силу своей натуры, находившейся в оппозиции к партократической брежневской модели.
В десятой главе рассматриваются различные аспекты образа жизни номенклатуры, делается попытка определить особенности номенклатуры как потребителя исключительного уровня. Следует отметить, что занимаемые должности открывали лицам, принадлежащим к номенклатуре, прямой или косвенный доступ к дефицитным товарам и услугам. Подобные привилегии создавали социальную исключительность номенклатуры, обоснованную возможностью получения труднодоступных для остальной части населения товаров и услуг. Часть привилегий нередко замещалась «нелегальным» получением дефицитных товаров и услуг путем использования служебного положения или с помощью рабочих и личных связей. Эта тенденция была более характерна для технократов, участвовавших в процессе производства и распределения товаров.
Особенностью потребления номенклатуры был не только доступ к товарам, но и склонность к рафинированному поведению, а предпочтение западных товаров и характерных для Запада привычек потребления свидетельствовали о разочаровании в возможностях обеспечения, предлагаемых советской системой. Особенности потребления номенклатуры могут служить примером средства «трансплантации» западного образа жизни в литовское советское общество35.
В четвертой части на основе описанных в предыдущих разделах особенностей реакции номенклатуры на инициативы центра и идеологической и социальной адаптации сделана попытка оценить взаимоотношения литовской номенклатуры с системой.
В одиннадцатой главе показана история кристаллизации на основе конъюнктурных моделей трех основных групп советской номенклатуры: партократы, технократы и культурно-научная номенклатура. Внутри и на периферии этих групп существовали и не такие масштабные группировки, представлявшие интересы более мелких социальных сетей. Группы по-разному взаимодействовали с системой. Партократическая номенклатура, являясь собственником существующей системы, несла ответственность за поддержание соответствующих идеологических требований и контролировала их реализацию, а также реагировала на директивы центра. В то же время в отдельных случаях у партократов была возможность проводить директивы центра (например, в области сельского хозяйства) более мягко.
Связь с системой технократов, формально входивших в контролируемые партией номенклатурные списки, не базировалась на идеологии, а опиралась на производственные структуры и потребности развития народного хозяйства. Идеологическое окружение технократов и контроль их деятельности были задачами, прежде всего, местных партократов. Поэтому технократы зависели от идеологии в степени, пропорциональной степени испытываемого ими идеологического контроля. Если преимущества партократов автоматически обеспечивались занимаемым постом, то технократы должны были создать преимущество сами путем утверждения в структуре производства. Взаимодействуя с центром, технократы опирались на неформальные связи, стремясь не только обеспечить защиту, но и активно продвигать свою отрасль или предприятие. Производственная конъюнктура демонстрирует выявившееся в 1970-х годах в Литве преимущество динамичных технократов по сравнению с партократами.
Номенклатура в сфере культуры и науки выделялась по сравнению с другими группами своей многогранностью. Некоторые группы номенклатуры деятелей культуры и науки отличались не только обязательствами, общими для всех деятелей культуры, но и в некоторых случаях особо тесными связями с партократами и технократами, перенимая при этом и аналогичные конъюнктурные обязательства этих двух групп.
Рассматривая проблему «тесноты» советской системы для номенклатуры, следует отметить, что подобная позиция была характерна для технократов и деятелей культуры. Для первых существенной помехой были все шире распространяющаяся эрозия управления системы и недостатки плановой экономики, выражением которых стало появление теневой экономики, имитация и неэффективность деятельности, нехватка сырья и проч. Вторые были ограничены постоянным идеологическим контролем со стороны партократов и других идеологов, жесткими границами творческой деятельности, цензурой. Все эти препоны обесценивали обязательства представителей номенклатуры поддерживать стабильность системы и идеализацию пропагандируемой системы ценностей.
В двенадцатой главе рассматриваются национальная ориентация литовской номенклатуры. Национальная ориентация в контексте советской системы оказывается связанным находящейся в согласии с коммунистической идеологией моделью «национального коммунизма» (советизация как явление, не перекрывающее выражение национального самосознания). Идеи национального коммунизма были более близки номенклатуре в сравнении с идеологией, пропагандирующей открытый национализм. Подобную приверженность национальной идее раскрывает рассматриваемое в работе явление «местечковости» или локальной привязанности номенклатуры, что являлось своеобразной пассивной формой «национального коммунизма». Локальная привязанность, предполагавшая защиту переплетенных между собой интересов республики и «клановых» интересов номенклатуры, свидетельствовала о замкнутости республиканской власти, ее сосредоточенности исключительно на местных проблемах, о попытках собрать все силы и демонстрировать мощь в локальном пространстве, об отказе любой ценой преследовать цели системы. Локальная привязанность не только находилась в зависимости от системы, но и по-своему интерпретировала систему, приближая ее к местным интересам.
Локальная привязанность партократов, характерная для правления и А. Снечкуса, и П. Гришкявичюса, постоянно меняла свои формы. Во время правления А. Снечкуса литовская номенклатура могла самостоятельно и открыто говорить не только о республиканских проектах модернизации (условия для этого были созданы и действовавшим в то время Советом народного хозяйства), но и проводить инициативы в области либерализации культуры (хрущевская оттепель), и сам первый секретарь активно интересовался практическими проблемами.
Во время правления П. Гришкявичюса, в условиях ужесточения режима отмеченного тенденциями к замкнутости, власти стремились всегда формально соответствовать ожиданиям центра (эффект избегания неприятностей) и не допускать публичной конфронтации интересов центра и республики. Отдельные эпизоды показывают, что П. Гришкявичюс толерантно относился к формированию местных кланов номенклатуры, а его окружение на административном уровне активно опиралось на неформальные правила, в то время как на бюрократическом уровне тормозились не являющиеся полезными для республики и/или ограничивающие влияние местных руководителей инициативы центра.
Следует отметить, что при характерном для брежневской эпохи росте влияния союзных министерств поддерживаемая партократами локальная привязанность предполагала обязательства партократов и деятелей культуры не только перед идеологией или отдельной сферой производства или культуры, но и перед республикой.
Деятели культуры, под давлением постоянного контроля хорошо усвоившие конъюнктурные поведение, были вынуждены сильно ограничивать себя и всячески поддерживать положения коммунистической идеологии, теряющие позиции на ценностной шкале общественного мнения. Для этой группы поддерживаемая партократами модель локальной привязанности была явно тесна. Создавшееся положение создавало возможности для самовыражения патриотической линии, нашедшей форму, позволяющую уделить достаточно большое внимание «литовской специфике» в литературе, а поддержка этой специфики в свою очередь нашла свое место в конъюнктурной системе.
Так, в литературной среде лояльные к системе «консерваторы» писали на темы родного края, литовской истории, пытаясь найти форму (эзопов язык) и нишу для выражения своей позиции. Тему родного края можно считать определенной патриотической линией, которая пользовалось широкой общественной поддержкой. Деятели культуры подобной ориентации доминировали в литературной среде уже в конце 1960-х годов. Именно деятели культуры, отличавшиеся более широкими по сравнению с идеологами и партократами взглядами на недостатки и отрицательное влияние системы, были потенциальными сторонниками и инициаторами перемен.
Конфигурация конъюнктурных сил, выявившаяся и устоявшаяся в брежневскую эпоху, и связь этих сил с моделью локальной привязанности объясняет реакцию номенклатуры на перемены, начавшиеся в 1985 г. В тоже время контекст преобразований как лакмусовая бумажка высвечивает характерные черты каждой из трех групп номенклатуры и помогает понять обоснованные этими чертами выбор и действия номенклатуры. Следует отметить, что модель локальной привязанности, которая в брежневскую эпоху позволяла, лавируя, поддерживать национальное самосознание, в эпоху перестройки превратилась в препятствие, парализовавшее действия части принадлежавших к номенклатуре лиц. Поэтому реформы М. Горбачева вплоть до 1988 г. оставались чуждыми большей части представителей номенклатуры, отдельные инициативы вызывали формальную реакцию, на бюрократическом уровне вяло стимулируя экономические (развитие хозяйства), технологические (ускорение), социальные (борьба с алкоголизмом) и другие перемены.
Прохладное отношение к переменам особенно ощущалось со стороны партократов, ограничивавшихся декларативными решениями. Технократы, плотнее всех столкнувшиеся с требованием развития хозяйства, не смогли добиться запланированных позитивных результатов. Следует отметить, что часть деятелей культуры (например, руководство Союза писателей), для которых был характерен критический настрой по отношению к модели локальной привязанности, в отличие от других групп видела в переменах большие возможности и только поддерживала перемены, но и поощряла их.
Таким образом, сформировавшейся в брежневскую эпоху конъюнктурные модели номенклатуры и отношение с системой явились определяющими для процессов 1980-х годов в республике.
Выводы
- Литовская номенклатура может рассматриваться как отдельное социальное образование, выходящее за рамки формальной номенклатурной системы и состоящее из различных линий и групп, обладавших отдельными кругами общения, неодинаково вовлеченных в аппарат власти и имевших различные конъюнктурные обязательства. Систематизация на основе конъюнктурных обязательств позволяет выделить три основные группы: партократы, технократы (промышленники и аграрии), деятели культуры. Группы отличались степенью заинтересованности в поддержке советской системы.
- Литовская номенклатура, несмотря на различия групп, в советское время отличалась общей моделью внутренних взаимоотношений, которая, поддерживая влияние и силу местных партократов, обеспечивала утверждение специфической бюрократической культуры, создавая большие возможности для стимуляции социально-экономического прогресса (интересы родного края) и игнорирования инициатив центра, ограничивающих самостоятельность республики. При усилении централизации в брежневскую эпоху основанное на этой модели «коридорное» и неформальное лавирование частично амортизировало влияние центра, позволяя местной власти оказывать значительное влияние на социально-экономическое развитие республики и, отчасти, тормозить реализацию инициатив центра, направленных на рост зависимости республики от центральных властей.
- Локальную привязанность можно считать определенной пассивной формой «национального коммунизма», позволявшую, формально не оспаривая советскую систему как ценность и используя неформальные методы для сохранения контроля в руках литовской номенклатуры, противостоять растущему влиянию центра. Подобное приспособленчество и манипуляции системой отчасти принимались в связи с развившейся в брежневскую эпоху характерной для всего СССР специфической бюрократической культурой, позволявшей поддерживать и представлять, лавируя в рамках плановой системы, интересы, которые на формальном уровне могли позиционироваться как пункты «построения социализма», несмотря на то, что на практике они часто, по сути, способствовали эрозии системы. Но, являясь продуктом советской системы, локальная привязанность ограничивала действия номенклатуры, выходившие за официально установленные границы, и вызывала протесты общества не только во время правления Л. И. Брежнева, но и в период начавшейся в центре перестройки 1985–1988 гг.
- Локальная привязанность как явление, дисциплинировавшее номенклатурные связи, часто заменяла собой полые идеологические цели, отчасти, таким образом, уменьшая ощущения хаоса в системе управления, возникшие с углублением эрозии советской системы. Локальная привязанность обладала рядом преимуществ. Так, сохранялась заинтересованность в поддержании социалистических ценностей в республике (расцвет народов), соответствовавших производственным и культурным инициативам. Тем не менее, деятели культуры и технократы были неспособны преодолеть установленные границы контролируемой партократами локальной привязанности.
- Локальная привязанность была, прежде всего, инициативой партократов и до перестройки (вторая половина 1980-х годов) оставалась рациональной стратегией республиканских властей, позволявшей развивать социально-экономическую самостоятельность республики путем создания «социальных благ», и через символическое самовыражение оказывавшей влияние и на «националистические» настроения общественности республики. В период инициированной центром перестройки локальная привязанность стала основной тормозящей силой, препятствовавшей попыткам решать проблемы системы и выдвигать актуальные для республики требования.
- Несмотря на то, что технократы и деятели культуры также отождествляли (или были вынуждены отождествлять) себя с этой моделью, после того, как появилась возможность поддерживать преодолевающее существующее положение вещей политические и экономические требования, эти группы номенклатуры посчитали себя обязанными безусловно поддерживать новые требования. В тоже время местные партократы, являясь «собственниками» модели, были склонны замкнуться в ней как в силу устоявшихся социальных привычек, так и в силу приносимой ею пользы и получаемого могущества, которые в случае крушения существующей системы могли быть утрачены. Анализ контекста реформ показывает, что боязнь партийного руководства республики утратить позиции привела к тому, что литовская номенклатура вплоть до 1988 г. старалась сохранить стабильность структуры даже в период очевидного разрушение номенклатурных структур в результате внешнего давления.
Вилюс Иванаускас – доктор истории, научный сотрудник Литовского института истории (г. Вильнюс, Литва), vilius.ivanauskas@gmail.com
Текст является кратким изложением содержания монографии автора: Ivanauskas Vilius. Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. 1968–1988 [Литовская номенклатура в бюрократической системе. 1968–1988]. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011, 664 p.
- В поздний советский период до 23 августа 1987 г. (митинг по поводу пакта Молотова-Риббентропа) открытые политические требования практически не встречаются. Исключение составляют самосожжение Р. Каланты в Каунасе весной 1972 г., деятельность диссидентов и публикации периодического издания «Хроники Литовской католической церкви».
- Djilas M. New Class: An Analysis of the Communist System. – New York, 1982.
- Восленский М. С. Номенклатура. – М., 2005.
- Antanaitis K. Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra // Darbai ir dienos (Kaunas). – 1998. – № 7 (16).
- Bauža Č., Setkauskis P. Lietuvos valstybingumas XX amžiuje: Atkūrimas ir tęstinumas. – Vilnius, 2002.
- Tininis V. Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai. – Vilnius: Enciklopedija, 1994.
- Bennigsen A. A., Wimbush E. S. Muslim national communism in the Soviet Union: A revoliutionary strategy for the colonial world. – Chicago, 1979.
- Verdery K. National ideology under Socialism. Identity and cultural politics in Ceausescu’s Romania. – Berkeley, CA, 1991.
- Roeder P.G. Soviet Federalism and Ethnic Mobilization // World Politics. – 1991. – Vol. 23, no. 2. – P. 196–233.
- Kemp W.A. Nationalism and communism in Eastern Europe and the Soviet Union. – New York, 1999. – P. 166–171.
- Smith G. The resurgence of nationalism // Smith G. The Baltic States: The National Self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania. – London, 1996. – P. 122.
- Marcinkevičienė D. Sovietmečio istoriografija: užsienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos // Lietuvos istorijos metraštis, 2003. – T. 2. – Vilnius, 2005. – P. 104.
- Несмотря на то, что А. Вайнер имел ввиду возможность, прежде всего, правящей элиты игнорировать правила и заявлять о своих интересах, рассматривая поздний советский период этот принцип можно распространить и на более широкие круги общества. Cм.: Weiner A. Making sense of War: The Second World War and the fate of the Bolshevik Revolution. – Princeton, 2000.
- Lomnitz L. A. Informal exchange networks in formal systems: A theoretical model // American Anthropologist. – 1988. – Vol. 90, no.1. – P. 42–55.
- Kotkin S. Magnetic mountain: Stalinims as a civilization. – Berkeley, CA, 1995.
- Yurchak A. Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. – Princeton, 2005.
- Judson M. R. A new Brezhnev doctrine: The resructuring of international relations // World politics. – 1978. – Vol. 30, no. 3. – P. 366–390.
- Walicki A. Marksizmas ir šuolis į laisvės karalystę. Komunizmo utopijos istorija. – Vilnius, 2005.
- Там же.
- Kaртер П. Шеф идеолог: M. A.Cуслов и «наука» о коммунизме в СССР. – М., 2003
- Tarybinių Socialistinių Respublikų Konstitucija. – Vilnius, 1977.
- Smith J. The fall of Soviet communism. – New York, 2005.
- Восленский М. С. Номенклатура. – М., 2005.
- Štromas A. Laisvės horizontai. – Vilnius, 2001.
- В работе были исследованы воспоминания и биографические произведения как литовских (В. Бутенаса, В. Казанавичюса, В. Астраускаса, Б. Гянзялиса, А. Бразаускаса, В. Ландсбергиса, Э. Бичкаускаса, Л. Ашмантаса, П. Навикаса, Г. Фярянсене, Й. Януйтиса, A. Беляускаса, А. Дирлинги, В. Кубилюса и др.), так и русских авторов (М. Горбачева, А. Яковлева, A. Байгушева, В. Сенина, Б. Славна, К. Брутенца, Р. Медведева).
- Antanaitis K. Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra // Darbai ir dienos (Kaunas). – 1998. – № 7 (16). – P. 17–18.
- Восленский М. С. Номенклатура. – М., 2005.
- Понятие «социальные ритуалы» были описаны Э. Дюргаймом. См.: Durkheim E. Elementariosios religinio gyvenimo formos. – Vilnius,1999. – P.41–44.
- Bordieu P. The forms of capital // Handbook of theory and research for the sociology of education / Ed. by J. Richardson. – New York, 1986. – P. 241–258.
- Такая точка зрения характерна для А. Штромаса, в монографии которого используются понятия «технократы» и «партократы». См.: Štromas A. Laisvės horizontai. – Vilnius, 2001.
- Verdery K. National ideology under Socialism. Identity and cultural politics in Ceausescu’s Romania. – Berkeley, CA, 1991. – P. 14–15.
- Lietuvos KP centro komiteto XIX plenumo 1975 m. rugsėjo 12 d. nutarimas. Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK. – Vilnius, 1975. – P. 1.
- Lietuva, 1940–1990: Okupuotos Lietuvos istorija. – Vilnius, 2005.
- Интервью А. Струмбраса, старшего инженера Главного управления промышленной энергетики и электрификации ЛССР (31 мая 2007 г.).
- См.: The social life of things. Commodities in cultural perspective / Ed. by A. Appadurai. – Cambridge, 1986. – P. 33–34.

