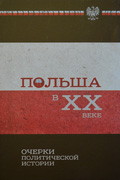 В начале нынешнего года в Москве был опубликован новейший синтез истории Польши ХХ века, вышедший из-под пера известных российских полонистов. Сочинение, первое такого рода после падения СССР, насчитывает свыше 950 страниц и определяется в аннотации как фундаментальная монография на актуальную научную тему, подготовленная историками ряда институтов РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Пермского государственного университета на базе современной отечественной и зарубежной литературы и документов. Чтение этой обширной книги, однако, склоняет к тому, чтобы, вопреки упомянутому анонсу, признать большую часть адресованной «читателям ХХI века» работы сочинением, опирающемся на весьма хрупкий фундамент. Представленные на её страницах методологические подходы, язык и интерпретация слишком уж часто принадлежат веку двадцатому, а именно советской эпохе.
В начале нынешнего года в Москве был опубликован новейший синтез истории Польши ХХ века, вышедший из-под пера известных российских полонистов. Сочинение, первое такого рода после падения СССР, насчитывает свыше 950 страниц и определяется в аннотации как фундаментальная монография на актуальную научную тему, подготовленная историками ряда институтов РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и Пермского государственного университета на базе современной отечественной и зарубежной литературы и документов. Чтение этой обширной книги, однако, склоняет к тому, чтобы, вопреки упомянутому анонсу, признать большую часть адресованной «читателям ХХI века» работы сочинением, опирающемся на весьма хрупкий фундамент. Представленные на её страницах методологические подходы, язык и интерпретация слишком уж часто принадлежат веку двадцатому, а именно советской эпохе.
Ограниченность формата публикации не позволяет всесторонне представить содержание анализируемого текста. Достаточно сказать, что издание состоит из шести глав, каждая из которых содержит несколько очерков. Последние, помимо своих названий, обещающих текст скорее эссеистского характера, делятся на подразделы. Первая часть «Последние годы неволи», посвящена положению поляков в начале XX в., завершается 1918 г. – её авторы – Мария Крисань из Института Славяноведения РАН, Максим Булахтин из Пермского государственного университета и Геннадий Матвеев из Московского государственного университета. Последний исследователь – автор также второй главы «Вторая Речь Посполитая», пожалуй, лучшей в книге, хотя и несвободной от ряда сомнительных интерпретаций. Третью главу «Военные годы: от сентябрьской катастрофы к освобождению и возрождению страны (1939-1945)» написала (за исключением последнего почерка) Валентина Парсаданова, историк, многие годы проработавший в Институте славяноведения РАН. Альбина Носкова, ответственный редактор всей книги, также сотрудник указанного института, завершила раздел о Второй мировой войне и представила читателю свой взгляд на послевоенный период до 1956 г. Однако, последнюю часть главы: «От народной демократии к сталинизму. Кризис 1956 г. и попытки десталинизации (1945-1959)», посвящённую рассказу о польском «октябре 1956 г.» и последующих годах, то есть о процессе десталинизации Польши, написал Александр Орехов из Института Славяноведения РАН. Пятая часть книги, названная «Социализм эпохи Владислава Гомулки и Эдварда Герека (1960-70-е)», вышла из-под пера умершего в прошлом году Николая Бухарина. Главу шестую «На пути от социализма к демократии (80-е годы ХХ века – начало ХХI в.» написала Лариса Лыкошина из Института научной информации по общественным наукам. Она же, совместно с Матвеевым, вошла в состав редакционной коллегии книги. Рецензентами книги являются Елена Гуськова, занимающая должность руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института Славяноведения РАН и Любов Шишелина, заведующая отделом восточноевропейских исследований Института Европы РАН.
Не сложно отметить, что особо значимыми хронологическими вехами для авторов книги стали 1959 и 1980 годы. Первая дата – год проведения третьего съезда ПОРП – выбрана неудачно. Фактическим переломом в истории Польши стал 1956 г., ознаменовавший отстранение от власти сталинистов, напрямую зависимых от Советского Союза, и приход к руководству более умеренного крыла польских коммунистов, возглавляемого Владиславом Гомулкой, лидером коммунистов в 40-ых годах, пережившим сталинские репрессии. Именно тогда наступил апогей процесса культурной десталинизации Польши. Второй поворотный момент, а именно возникновение в 1980 г. «Солидарности», многомиллионного, неконтролируемого властью профсоюза, более обоснован. Однако, проблема состоит в том, что при подобном подходе в одном разделе смешиваются последний период Польской народной республики (ПНР) и история возникшей в 1989 г. свободной Польши, назвавшей себя Третью Речью Посполитой (Rzeczpospolita в польском языке – устаревший синоним республики).
Политическая история – как это представляется из нарратива почти всей книги – воспринимается авторами в категориях весьма узких, и из-за этого очень спорных, а, учитывая развитие историографии последних десятилетии – категориях даже архаических. В книге отображается прежде всего история правительства: формального или фактического, а также политических партий. За исключением польско-советских отношений, особенно в период Второй мировой войны и Польской Народной Республики (ПНР), крайне мало внимания уделено другим вопросам польской внешней политики. Хотя, принимая во внимание многочисленные связанные с этой проблематикой мифы, существующие в России, рассмотреть эти сюжеты было бы весьма желательно. Также в исследовании содержится недостаточно информации о концепциях или о политических доктринах, не проведено углубленного анализа идейных течений, существующих среди польского населения. Если эти темы и появляются, то только в контексте обсуждения программ отдельных политических партий. Также читатель недостаточно узнает об общих условиях, влияющих на развитие политической истории Польши, в том числе о значимости демографической ситуации, уровне экономического развития государства и образования его населения, об экономических, административных и юридических реформах, а в разделе, посвященном Второй Речи Посполитой – также о усилиях, направленных на объединение страны, свыше сто лет не функционировавшей в рамках одного политического, экономического, культурного и правового пространства. Одним словом – не хватает всего того, что можно определить как детерминанты и фон процессов реализации власти.
Стоит отметить, что предлагаемая история Польши очень слабо персонифицирована, поскольку кроме горстки людей, которые ей руководили, в частности Юзефа Пилсудского, Станислава Миколайчика, Вдадислава Гомулки и Эдварда Герека, полностью отсутствуют сведения о других важных лицах польской истории. Зато, приводится множество фамилий, когда речь идет об истории какой-либо партии, или просто политической группировки динамики и их разделов, расколов или слияний, без попытки хотя бы в минимальной степени представить все эти лица. К слову сказать, подобное внимание к этим персонам представляется необоснованным, потому что даже у образованного польского историка фамилии таких «личностей» как Вдадислав Ковальский или Феликс Виды-Вирский, неоднократно упомянутые в нарративе, как правило, не вызывают никаких ассоциаций. Что же сказать о российском читателе. Эти партийные деятели стали историческими no-name’-ами!
В то же время незаслуженно умоляется роль польской эмиграции, в том числе такие важные ее институты, которые после войны производили мощное влияние на ситуацию в Польше, как Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, руководимая Яном Новаком-Езеранским (фамилия в работе не упомянута) или парижский ежемесячник «Культура» редактированный Ежи Гедройцем (фамилия появляется только в контексте политики Третьей Речи Посполитой по отношению к России, Украине и Беларуси).
Спорные интерпретации
Кроме упомянутого узкого понимания терминов «политики» и «политической истории», также необходимо отметить три других тенденции:
a) Этнонационалистический нарратив, идентифицирующий понятие нации (то есть сообщества культурно-политического, сознающего свое самостоятельное существование, вне других наций, и имеющего свое государство либо стремящееся его создать) и этнической группы. В результате, в книге оспариваются либо игнорируются аргументы, обосновывающие притязания польского государства и польской нации на литовские и «руские» (польск. ruskie, не путать с русскими) земли древней Речи Посполитой / Западного и Юго-западного края Российской империи, а этнонационализм представлен, сознательно или нет, в качестве единственной идеологии, исполняющей критерии добра, правды и справедливости в международных отношениях.
б) Отсутствие квалификации, либо слабая и поверхностная ориентация в области международного права, которое являлось основной платформой, нормативно регулирующей отношения между государствами. Это приводит либо к фактическому отрицанию необходимости учитывать правовые отношения при конструировании исторического нарратива, либо к повторению, возможно неумышленному, правовой позиции тоталитарного государства, каким были как большевистская Россия, так и Советский Союз, по крайней мере до 1956 г.
в) Аксиологический релятивизм, проявляющийся в отсутствии различения – на уровне описания, а часто также оценок – политики тоталитарного государства и действий его приверженцев, как например польские коммунисты c одной стороны, и демократических государств и действий политических сил, выступающих за демократию и политический плюрализм – с другой. Таким образом, оценка польско-советских отношений и, более широко, отношений СССР со странами «капиталистического» мира, а также ситуации в Польше после 1944 года, часто проводится формально, в отрыве от реальной ситуации, сложившейся в Советском Союзе при Сталине. Это сопровождается тенденцией буквального прочтения источников, что приводит в конечном счете к признанию деклараций советской власти выражением их истинных намерений, и эмоциональному желанию у некоторых авторов защищать прижившиеся в России толкования «отечественной истории».
Интерпретаций, которые подтверждают эти наблюдения, в книге множество. С учётом ограничений объёма текста, я остановлюсь на наиболее спорных. Уже во введении, в первом абзаце, в дополнение к бесспорному тезису о том, что история знала и польские походы на Москву, и соучастие царской России в разделе Польши, мы сталкиваемся с положением о том, что Польша и Советский Союз участвовали в разделе Германии после Второй мировой войны (с. 12). Здесь использовалась та же терминология, что применялась для описания падения Речи Посполитой в результате координированных действий России, Пруссии и Австрии. Почему? Скорее из-за того, чтобы заставить читателя подумать о сходстве между этими двумя событиями, да и вообще о подобии исторического поведения поляков и русских. Таким образом, все авторы - потому что вступление анонимное – подписались под концепцией, что провозглашаемое уже Цицероном и святым Августином, не говоря о средневековье, различие между агрессивной войной и войной справедливой (оборонительной) не имеет значения. Ведь Германия понесла территориальные потери после поражения в войне, которую она же сама начала (агрессии между 1939-1941гг)., в то время как первый раздел Речи Посполитой (1772 г.), произошел в период мира в результате сговора трех соседних держав, а второй (1793) и третий (1795) после поражений в оборонительных войнах Польши с Россией и Пруссией.
Освещение истории Польши ХХ века начинается пространным описанием политической жизни, особенно ситуации в легальных и нелегальных партиях на польских землях в конце ХІХ в. Сосредоточившись на этих вопросах, Мария Крисань скупо освещает такие проблемы, как скажем положение поляков в разных государствах, что для российского читателя, чаще всего не достаточно ознакомленного с историей Польщи, могло вероятно стать гораздо более полезным и интересным. Обращает на себя внимание особая поверхностность описания положения поляков в Прусском государстве, обойдено молчанием положение поляков на землях, называемых в польской традиции «Литвою и Русью», то есть в современных Литве, Беларуси и Украине, являвшихся тогда Западным и Юго-Западным краем Российской Империи. Отсутствуют также попытки сравнить политическую, экономическую и культурную ситуацию поляков в разных империях. Отсутствуют сведения об уровне «модернизации» польского общества – а ведь в этом отношении прусская часть Польши отличалась решительно inplus от австрийской и российской. Не отражено развитие националистического движения (так называемая эндеция) на польских землях, а также не проанализирована трансформация самой концепции польской нации от политической через политическо-культурную до политическо-культурно-этнической. Для понимания природы международных отношений в Европе в XIX и XX вв. это принципиально важно.
К сожалению, Мария Крисань вероятно даже не осознает необходимости провести такого рода анализа, отождествляя понятия этничности и национальности (с. 20), одновременно выражая удивление, что участники январского восстания (с. 18), не смотря на этнический состав населения Западного и Юго-Западного края, пытались овладеть этой территорией. Допустимо, конечно, не соглашаться с концепцией Польши, состоящей из коренной Польши, бывшего Великого Княжества Литовского и восточнославянских, «руских» областей бывшего Польского Королевства. Можно также полагать, что нереалистичными были предпринятые, прежде всего после падения Речи Посполитой и в условиях отсутствия польской государственности, попытки трансформировать элитарную «польскую» нацию, сформировавшуюся на этих территориях, в современную массовую нацию. Однако польский подход, при котором этническое разнообразие не считалась препятствием для национального единства, несомненно стоит показывать. Сделать это тем более целесообразно, поскольку в России и других постсоветских странах доминирует понимание нации в строго этнических категориях, что по большей мере является наследием советской политики. В Польше 19 века нередко было по другому – вот, например, фрагмент стихотворения на украинском языке 1862 г., напечатанного латинским шрифтом: В ім'я Отца іСина – то наща молитва:Яко Польща так едина Русь и Литва. (...) Єдно в мижи ем надієв, вспільная нам слава. Всім зарівно милий Кіев, Вільно і Варшаве [1].
В третьей части главы обращает на себя внимание категорическое утверждение Геннадия Матвеева, что решение центральных держав от 5 ноября 1916 г. о провозглашении на территории занятого немецкими и австрийскими войсками Польского Царства отдельного польского государства было откровенным нарушением международного права, разрешающего проводить территориальные изменения только на мирных конференциях. Не меньшим нарушением – пишет Матвеев – было бы и введение в этом эфемерном государстве всеобщей воинской повинности, то есть прямое принуждение подданных России польской национальности к государственной измене (с. 81). Это мнение Матвеева, действительно, admeritum обоснованное, однако способ его представления создает впечатление высокого субъективизма суждений. Автор не добавил, что еще большим нарушением международного права были сами разделы Польши, а Россия своей политикой во всех (!) бывших провинциях Речи Посполитой, не только в Польском Царстве, вдобавок нарушила и другие действительные положения международного права, в частности статью 1 и 14 Заключительного акта Венского Конгресса.
Совершенно неубедителен очередной вывод Матвеева, что после денонсирования большевистским правительством Брестского мирного договора, у Москвы появились законные основания вновь считать Западный край империи своей территорией. Исходя из этого продвижение Красной армии на запад вслед за отходящими немецкими войсками согласно международному праву не было агрессией (с. 125). На самом деле одним из основных принципов международного права является принцип так называемого эстопелля. Денонсирование вступивших в силу соглашений не может изменить правового положения, когда другие стороны, в данном случае, польское государство, могли бы понести убытки. Применение других правил нарушало бы защиту приобретенных прав, а в международном измерении создавало бы постоянный правовой хаос. Следуя логике проф. Матвеева, возрождающаяся Польша, признававшая себя государством идентичным с Речью Посполитой времен предшествующих разделам, а не новым государством (!), или даже теперешняя Польша могла бы, например, «денонсировать» договор 1686 г. Речи Посполитой и Москвы, так называемый «Вечный мир». Что тогда? Разве у Варшавы появились бы законные основания вновь считать смоленскую землю своей территорией? Заслуженного исследователя я отсылаю к обширной и сохраняющей постоянное значение работе Цезария Березовского, к сожалению не приведенной в списке использованной литературы. Этот автор всесторонне, со ссылками на мировую литературу по указанной тематике, с учетом судебных решений и на широком сравнительном фоне, проанализировал вопрос возникновения польского государства в международно-правовом отношении [2].
Матвеев также утверждает, основываясь на заявлениях большевиков, что советская Россия не планировала войны с Польшей в 1920 году (с. 129). Именно киевский поход Пилсудского спровоцировал польский поход Красной Армии и глубочайший кризис молодой польской государственности – добавляет дальше (с. 131). В свете новейших исследований, которые выявили достоверные данные польской разведки о приготовлениях большевиков к войне и походу на Польшу, защищать этот тезис, впрочем всегда очень спорный, становится еще труднее. Сам профессор Матвеев принимал участие в конференции в Риге в июне 2011 года, где эти проблемы обсуждались. Результатом конференции стала недавно изданная работа «Забытый мир. Рижский договор» под редакцией Славомира Дембского. Дарья Наленч припоминает в ней о записке Чичерина от 14 февраля 1920 г. о том, чтобы в случае войны вина упала на польское правительстве [3]. Гжегож Новик в свою очередь обсуждает деятельность польской разведки в войне против большевиков [4]. Хочу однако отметить, что Матвеев на фоне своей коллеги Валентины Парсадановой, написавшей главу о Второй мировой войне, выглядит довольно рассудительно. Последняя наступление на Киев весной 1920 года армий Польской Республики и Украинской Народной Республики называет просто «авантюрой».
У Матвеева очень часто можно встретить противопоставление (несправедливых) претензии поляков на литовско-руские земли бывшей Речи Посполитой (справедливому) праву литовцев, беларусов и украинцев на самоопределение на своей территории. Матвеев пишет, например, что эти земли были «многонациональные» (с. 88), существующая до 1795 Речь Посполита была «многонациональным государством» (с. 107), а в начале XX века украинцы, белорусы, литовцы, латыши осознали свою национальную самобытность и стремились создать собственные национальные государства (с. 124). Оценивая ход польско-большевистской войны (в терминологии Матвеева: польско-советской), исследователь утверждает, что она велась главным образом на землях, которые не были ни польскими, ни русскими, но которые и те, и другие, считались своими (с. 127). Такие утверждения очень ясно показывают тенденцию отождествлять понятия этнической и национальной групп и не замечать, либо не выводить напрашивающихся заключений из факта, что население спорных земель было и этнически, и национально разнообразно. Мало того, часто оно было разделено, даже в пределах одной этнической группы, на несколько соперничавших друг с другом национальных ориентаций. В восточной части бывшей австрийской Галиции жили вместе евреи, поляки и русины. По численности последние, правда, превышали две первых группы, однако они сами были разделены на тех, кто признали себя украинцами – в начале ХХ века это было уже большинство украинскоязычных жителей провинции, на русских sensulargo (москвофилы) и на скудные остатки людей известных как genthe Rutheni, natione Poloni, то есть поляков руского происхождения. На землях, посчитанных Матвеевым «белорусскими», элиты были польские, еврейские или русские, а крестьянство – польское, а чаще всего польскоязычное и беларускоязычное. Национальное движение беларусов находилось на зачаточной стадии, а интеллигенция идентифицировавшая себя с беларуской нацией была малочисленной. В свою очередь, в Виленском крае «этнические» литовцы были в значительном меньшинстве, там преобладали поляки, из которых многие имели очевидные литовские или беларуские корни.
Также Матвеев пишет, что литовцы не желали сотрудничать с поляками до тех пор, пока те владели их исторической столицей (с. 127). Действительно, очевидным является факт, что Вильно было исторической столицей Литвы. При этом отнюдь не очевидным является отождествление всех жителей бывшего Великого Княжества Литовского с его литовскоязычным населением, раньше не всегда точно называемого жмудинами, которое в XIX в. под влиянием младолитовского национального движения постепенно преобразовалось в нацию, по своему собственному определению литовскую. Составляющее одну из двух частей Речи Посполитой Великое Княжество Литовское было государством населенным (в меньшинстве) балтами и (в большинстве) славянами с руским, а после 1697 года польским официальным языком. В Вильно первых десятилетий XX в. и Виленском крае доминировали литовцы-поляки (их самый яркий представитель - Юзеф Пилсудский), восточнее – литовцы-поляки и литовцы-беларусы. В истории ХІХ в. также представлены персонажи с литовско-русской идентичностью. На самом деле этническая ситуация Виленской земли с незначительным тогда и миноритарным в настоящее время процентом литовскоязычного населения не свидетельствовала в пользу литовских притязаний на Вильно. Город имел достаточно запутанный и спорный правовой статус. Неоднозначно следует рассматривать проблему права на самоопределение в отношении Ковна. Более аргументировано это можно было бы обсуждать при условии, если бы хоть один из игроков – будь то ковненская Литва, будь то Польша или большевистская Россия и подчиненные ей другие «советские» республики –создавал условия необходимые для свободного волеизъявления населения всего Виленского края касательно желаемой государственной принадлежности. Политикам Литовской Республики в силу отсутствия других убедительных аргументов необходимо было ссылаться на исторические соображения и хлопотать о признании их государства и (младо-) литовской нации за единственного легитимного правопреемника древнего Великого Княжества Литовского. Их позицию ещё можно понять. Позицию современного российского исследователя, относящегося к этой контроверзе pernonest, уже нет.
Стоить заметить, что во многом аналогично Матвееву этническую ситуацию в областях сегодняшней восточной Литвы и Польши, западной Беларуси и Украины представляет (сс. 387, 397) Валентина Парсаданова, написавшая главу, посвященную польско-советским отношениям периода Второй мировой войны. Согласно лучшей советской «историографической» традиции, она указывает, что в 1939 г. этнические польские земли остались под оккупацией Германии, украинские и белорусские отходили к СССР (с. 283). Это предложение неверно не только потому, что западная часть восточных воеводств польского государства, нелегально – о чём потом шире – аннексированных в состав Белорусской ССР в результате беззаконно объявленных выборов, проведенных на сталинских началах с применением всеобщего террора тоталитарного государства, была плотно заселена поляками и поныне находится в Польше (Подляшье и восточная Мазовия). Достаточно посмотреть на общую картину всех восточных воеводств довоенного польского государства, так называемой II Речи Посполитой, чтобы засомневаться в утверждениях Парсадановой, и бесчисленных других историков, распространяющих похожие лозунги. В 1939 г. 49% жителей так называемой «Западной Белоруссии» было поляками, 9% – евреями, a беларусы составляли лишь 23%! В свою очередь на землях Польши, аннексированных Литвой (тоже незаконно) жило 69,2% поляков и 13,1% евреев и только 11,3% литовцев! Исключительной была ситуация на Волыни и в бывшей Восточной Галиции, где 56,2 % населения были украинцами, а поляки (32%) с евреями составляли меньшинство (около 40%) [5]. Это официальные польские данные на 1939 г. на основе переписи населения от 1931 г., проведенной по языковому критерию. Перепись 1931 г. многими исследователями критиковалась за то, что она понижала на несколько процентов численность национальных меньшинств в Польше. Однако, общая картина не поменяется даже при коррективе этих статистических данных.
Изображение политики Польши в 1939 г. у Матвеева создаёт впечатление, что частичную ответственность за начало Второй мировой войны несет польское правительство, не высказавшее желания подключиться к «конструктивному диалогу» СССР с Францией и Великой Британией по поводу создания оборонного союза (с. 243). Парсаданова интерпретирует причины Второй мировой войны подобным образом (сс. 264-273). Ни один из исследователей даже не предпринял попытки пояснить, что именно побудило польские власти отклонить предложения помощи со стороны СССР весной и летом 1939 г.. Дело в том, что они включали в себя требования права на вход советских войск на территорию Польши, а польское правительство опасалось – и не без оснований- что раз пришедшая Красная армия польскую территорию уже не покинет, а Польша, или ее значительная часть, будет вновь подчинена российской власти, на этот раз в её тоталитарной ипостаси. Не только история XVIII и XIX вв. показывала, что эта боязнь была весьма обоснована. Это подтвердили события после 17 сентября 1939 г. в Польше, судьба балтийских государств и история всей Центральной Европы после 1944 года. Притом Парсаданова к своим предыдущим размышлениям добавила еще и то, что вплоть до 1939 г. Польша имела аппетиты на украинские земли (с. 265), хотя в действительности нет какого-либо документа, подтверждающего такое стремление. Наоборот, вся внешняя политика Польши после 1921 г. сосредоточивалась на внутренней консолидации государства и на защите его территориальной целостности от возможной агрессии со стороны Советского Союза, а не на попытках передвинуть границу далее на восток.
У Парсадановой просматривается чёткая тенденция формирования нарратива таким образом, чтобы свести к минимуму негативные аспекты деятельности СССР. Общеизвестно, например, что польский президент, правительство и главнокомандующий покинули территорию Польши и переехали в Румынию ночью с 17 на 18 сентября, получив информацию о том, что к местечку Куты, где они перебывали, приближаются отряды Красной Армии. То есть прошли целые сутки после начала советской агрессии. Как это представляет Парсаданова? О вторжении Красной Армии нет ни слова! Просто в 16 часов 17 сентября командование пришло к выводу, что положение польской армии безнадежно и полное поражение неизбежно (с. 277). Хотя такой подход более продуктивен, по сравнению с нарративом 1982 г., вообще переворачивающем причинно-следственную связь: у западный границ Советского Союза создалось опасное положение. Польская армия распалась, буржуазное государство, возглавлявшееся санационной кликой, потерпело крах. Правительство и командование армии покинули страну. 17 сентября 1939 г. Советское правительство приняло решение взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии [6].
Хорошо, что Парсаданова Anno Domini 2013 уже признает, что СССР совершил акт агрессии и нарушил международное право (с. 280). Недоумение однако вызывает утверждение, что испытывая давление Франции, принимая во внимание характер действий Красной Армии, польское руководство признало, что состояние войны отсутствует. Рыдз-Смиглы, еще находясь на территории Польши, издал приказ «с Советами не воюем» (c. 281). На самом деле этот приказ, приведенный целиком, явно подчёркивает свой оперативный, а не политико-правовой характер: Советы вторглись. Приказываю общий отход к Румынии и Венгрии кратчайшими путями. С большевиками не сражаться, только в случае атаки с их стороны или попытки разоружения частей. Задачи для Варшавы и городов, которые должны защищаться от немцев, без изменений. Города, к которым подойдут большевики, должны с ними вести переговоры по поводу выхода гарнизонов в Венгрию или Румынию. В то же время президент Мосьцицкий в обращении к нации заявил, что Польша стала жертвой агрессии с Востока. Именно такая позиция была передана польской дипломатией мировому сообществу. Власти неоднократно указывали на то, что польские земли оккупированы Германией и СССР7. Парсаданова отмечает, что польское правительство не объявило войны СССР (с. 284). Да, но по международному праву состояние войны уже существовало. Третий рейх тоже не объявлял войны Польше, Польша не объявляла войны Германии. О «войне» с Советским Союзом сказал премьер-министр и главнокомандующий, генерал Владислав Сикорский, 1 марта 1940 в радиообращении к своим соотечественникам. Никто в правительстве в изгнании не заявлял о правовой преемственности с довоенным государством, как пишет Парсаданова (с. 294), и не искал «международного признания», ибо оно было очевидно. Не признавали этого факта только государства, участвующие в разделе Польши и некоторые из их союзников, то есть Третий Рейх, Литва, Словакия (!) и СССР – последний утверждал (до 1941 года), что польское государство – сей « ублюдок» Версальского договора, как на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года выразился Молотов, о чём естественно Парсаданова промолчала – прекратило свое существование. Доказательством международного признания Польши служит, например, её участие в сессии Лиги наций в декабре 1939 г., той самой, на которой СССР был исключён из этой организации.
Парсаданова пишет также о «бывших польских гражданах», хотя польское государство жителей своих восточных провинций гражданства не лишило (с. 320, 396). Автор неоднократно указывает, что Львов и Белосток в 1940 г. были частью СССР (с. 301, 313, 333) и этот последний город был возвращен Польше в 1944 г. (с. 395).Аналогично рассуждает Носкова (с. 456).Такие подходы могут быть верными с точки зрения только внутреннего права СССР (конечно если использование слова «право» по отношении сталинского времени вообще уместно), но никоим образом не с точки зрения международного права, регулирующего отношения между государствами. Дело в том, что советские власти в сентябре 1939 г., осознавая, что международное право уже не допускало «завоевания» (debellatio) как легитимного метода приобретения территории, а единственным легальным методом расширения своей территории было ее приобретение путем цессии от государства – цедента и по его согласию, начали утверждать, что польское государство распалось, то есть перестало существовать как субъект международных отношений. Однако даже традиционное международное право, существующие до первой мировой войны, предусматривало, что временная оккупация одного государства вооруженными силами другого в результате военного поражения, не означает прекращения оного так долго, когда его вооруженные силы или вооруженные силы его союзников, сражаются с оккупантом. Развитие международного права в межвоенный период, также и при активном соучастии СССР, вообще исключило завоевание как метод приобретения территории, допуская его только на начале цессии. В конце концов, СССР, возобновив в 1941 г. дипломатические отношения с Польшей и ее правительством в Лондоне, отказался от своей концепции распада польского государства. Следовательно, области, называемые «Западной Украиной», «Западной Белоруссией» с Львовом, Белостоком, Брестом, а также Виленский край с Вильно, составляли (конечно, не фактически, а формально) часть польской территории и во время Второй мировой войны.
Известно, что советские власти, признав существование польского государства в 1939-1941 гг., и эмиграционное польское правительство, начали оспаривать польско-советскую границу, установленную трактатом от 1921 г. По мнению СССР, она подверглась изменениям после того, когда население областей занятых Красной Армией в 1939 свободно выявило свою волю присоединить населенные ими земли к «братским» советским республикам Украины и Белоруссии. Опять же, с точки зрения международного права нельзя говорить о какой-либо правовой силе решении СССР об аннексии этих территории, прежде всего из-за отсутствия воли суверена на цессию и принцип «Exiniuriaiusnonoritur», а также из-за ряда других международно-правовых норм, кодифицированных еще в Гаагских конвенциях от 1907 г., касающихся оккупации, которые СССР игнорировал. Нельзя не учитывать и фактов – сталинские выборы в «народные собрания» «западной Украины» и «западной Белоруссии» были настоящей пародией действительного избирательного процесса и не имели ничего общего с правом нации на самоопределение, как это толковал СССР. Существенно, что право на самоопределение само по себе никогда не давало исключительной возможности односторонне совершать территориальные изменения и не создавало правового титула на занятую территорию, по крайней мере согласно «буржуазной доктрине» международного права. (Стоит вспомнить, что тогдашний Советский Союз в отличии от современной России признавал не все нормы международного права, а только «прогрессивные»).
Международное сообщество в подавляющем большинстве никогда не признало «завоевания» польского государства и оно не дало санкции во время войны на односторонние советские аннексии. Не буду спорить, defacto западные союзники Польши перестали считать сохранение территориальной целостности польского государства догматом, исходя из практического подхода, допускавшего для достижения победы над Германией сотрудничество с СССР, что делало возможным территориальный польско-советский компромисс. Поэтому они оказывали давление на польское правительство, чтобы оно начало по этому поводу переговоры с СССР [8]. Тем не менее, с точки зрения международного права, Польша существовала дальше в границах 1939 г. Это состояние поменялось только 5 февраля 1946 г., когда был совершён обмен ратификационными грамотами договора о польско-советской границе от 16 августа 1945 г.[9]. Договор этот устанавливал границу, существующую с небольшими изменениями до сих пор. Польша в нем уступала (цессия!) СССР почти 90% территории занятых Красной Армией в сентябре 1939 г. 10 % оставалось при Польше, в том числе такие города как Ломжа, Августов, Белосток или Перемышль. Ни Парсаданова, ни Альбина Носкова, автор следующей главы – ничего об этом не написали, закрепляя таким образом продолжение функционирования в российской историографии и в общественном сознании сталинских «правовых» доктрин.
Уже упомянутое стремление защищать положительный образ СССР времен второй мировой войны приводит к тому, что Парсаданова в контексте 1940 года ничего (!) не написала о Катынском преступлении. Вопрос казни с санкции Сталина по приказу советского политбюро 22 тысячи польских военнопленных и представителей интеллигенции появляется в тексте только при описании разговора премьер-министра Владислава Сикорского и главнокомандующего создаваемой в Советском Союзе польской армии Владислава Андерса со Сталиным в декабре 1941 г. Процитируем исследователя: Однако 3 декабря 1941 г. под взаимные отношения двух правительств была заложена «бомба»: Сикорский и Андерс, выступавший в роли переводчика, передали Сталину поименный список на 3,5 тыс. офицеров, не обнаруженных польским командованием в СССР (с. 323). Итак «бомбой» названо не само массовое убийство, но попытка получить известие о судьбе офицеров взятых в плен Красной Армией на польской территории … Sapienti fiat est.
О „катынской трагедии” – как эвфемистически выражается Парсаданова (сс. 357, 358) – речь идет также в контексте 1943 г. Автор все-таки признает, что казни осуществляли сотрудники НКВД, но одновременно отмечает, что польское правительство оказалось близоруким, прося Международный Красный Крест разъяснить дело (с. 354). Парсаданова также обширно обсуждает взгляды псевдоисториков, отрицающих советскую вину за Катынь. Она сама в отличии от 1982 г.10 уже четко с ними не идентифицируется. Однако не упоминается, что казни совершались не только под Смоленском (с. 370), но также под Тверью, куда немецкие войска никогда не дошли, и под Харьковом, в ряде других мест, причём, некоторые из них сих пор не все известны. Таким образом, у читателя может создаться впечатление, что вопрос, кто на самом деле убивал поляков, полностью все-таки не разъяснен.
Отрадно, что Парсаданова отмечает невысокое влияние коммунистов и их слабую поддержку поляками (с. 342). Заметно однако, что автор не делает различия между партиями, стоящими на платформе демократии и политического плюрализма – а таковыми были почти все существующие в Польше партии от правых до левых (Польская социалистическая партия) – и партией антидемократической, поддерживающей тоталитарный строй, какой была коммунистическая, сотрудничающая с Москвой Польская рабочая партия. С таким аксиологическим релятивизмом сочетается тенденция отождествлять антикоммунизм с правыми силами и с национализмом. Парсаданова пишет, например (с. 413) что в ноябре 1944 г. ведущие позиции в [польском – Л.А.] правительстве перешли к антисоветски настроенным политикам правого и националистического спектра, не добавляя однако, что одной из главных политических сил в Лондоне была уже упомянутая Польская социалистическая партия. Это ее представитель, Томаш Арцишевский, стал в ноябре 1944 г. премьер-министром. Аналогично рассуждает Носкова, считающая, что это польские правые были ответственны за поражение в 1939 г. (с. 486), хотя правые и силы христианско-демократического и националистического спектра как раз были в оппозиции к правящему режиму пилсудчиков. Также Николай Бухарин, автор раздела рассказывающего о 60-х и 70-х гг., полагает, что антикоммунисты разной идейной ориентировки, сосредоточенные в Движении защиты прав человека и гражданина, были «националистами» (с. 783).
Стремление сохранить позитивный образ СССР проявляется также путём подчеркивания «компромиссного» отношения советских властей, со Сталиным во главе, к Польше. Дело, однако, в том, что о слове «компромисс» сложно говорить даже в свете выводов Парсадановой. Как минимум не могут это делать те, кто понимает, что право в демократических государствах является фундаментом их функционирования и оно чаще всего определяет рамки возможных решений правительств. Автор, как представляется, так не считает. В одном месте она пишет (с. 353): Сталин демонстрировал стремление СССР к соглашению с польским правительством, а парой строчек дальше – Границы компромисса он определял ясно: предложение о возвращении армии Андерса в СССР неприемлемо и, главное, граница 1939-1941 останется неизменной. В другом месте она напоминает, что после нападения Германии на СССР советские власти дали согласие на то, чтобы «этнических» (категория не предусмотрена польским законодательством) поляков и евреев вновь признать польскими гражданами, что было с их стороны значительной уступкой (с. 320).
Очень показательна тенденция Парсадановой и Носковой представлять СССР как «нормальное» государство, поведение которого существенно не отличалось от действий иных держав. Первый автор сравнивает, например, депортации, жертвами которых стали поляки, проживающие в оккупированных СССР польских воеводствах с судьбой японцев – граждан США, которые были интернированы во время Второй мировой войны. Отнюдь не оправдывая последней акции, за которое американское государство уже неоднократно просило прощения у своих сограждан и выплатило компенсации, при таком подходе не заметна разница масштаба и метод, какими эти акции осуществлялись, а также условии господствующих в лагерях. Носкова, в свою очередь, комментируя террор, применяемый НКВД по отношению к бойцам польского подполя, отмечает : то что в странах Западной Европы стояли не менее внушительные по численности войска США и Великой Британии и разоружались любые участники движения Сопротивления поляков не смущало (с. 435).
Парсаданова – в отличии от Матвеева – ответственность за так называемую Волынскую резню, то есть массовые убийства в 1943-1944 гг. польского населения на территории Юго-Восточных воеводств довоенной Польши, приписывает УПА, а немцев, что довольно спорно, считает „активными подстрекателями» (с. 378). Иначе полагает Матвеев, утверждающий, что убийства были взаимными (с. 240). Этот автор таким образом разделяет позицию большинства украинских историков, игнорируя результаты тщательных исследований проведенных в Польше. Достоверно установлено, что «Волынская резня» была организованной УПА этнической чисткой, а убийства украинцев имели характер спонтанного возмездия командиров некоторых отрядов, безусловно не санкционированного ни военными, ни гражданскими властями, и повлекли за собой несравнимо меньшее количество жертв [11].
Парсаданова оправдывает убийства, ссылки и всякого рода террор по отношению солдат Армии Краевой (АК), подчиненной правительству в Лондоне, поддерживаемой, как сама признает, абсолютным большинством поляков, таким образом: советское командование, как и командование любой другой действующей армии, где бы она ни находилась, не могло допустить присутствия и тем более действия в тылах своих войск не подконтрольных ему вооруженных людей и отрядов без предварительных на то политических договоренностей (с. 385, так же с. 399). Исследователь разделяет мнение историков, полагающих, что Красная армия, стоящая на другом берегу Вислы, была не в состоянии оказать помочь Варшавскому восстанию, а тезис о планированном бездействии, поддерживаемый абсолютным большинством польских историков – пропагандистским (сс. 404-406, 410-411). Как в свете этих подходов пояснить позицию советского командования, запрещавшего в течении полтора месяца на правом берегу Вислы посадки британских и американских самолетов, пролетавших тысячи километров, чтобы оказать помощь польской столице.
Парсаданова также оправдывает одно из наиболее унизительных проявлений зависимости Польши от СССР – занятие многих руководящих постов в польской армии гражданами СССР польского происхождения, зачастую даже не говорящими по-польски. Об этих «исполняющих обязанности поляков» она пишет с пафосом: В главном штабе из 159 важнейших должностей 110, или свыше 70%, занимали советские офицеры, многие из которых были этническими поляками. Они не присягали на верность польскому государству, но отдавали ему свою жизнь. (с. 417). В очередной раз необходимо напомнить, что категория «этничности» не равняется «национальности». В Польше к большевикам с польскими корнями, таким как Константин Рокоссовский, Кароль Сверчевский или умерший намного раньше Феликс Дзержинский, не относились как полякам, но как «советам», хотя бы польского происхождения. В практическом плане категория «польскости» предполагает не только и не всегда «польское происхождение», а прежде всего лояльность по отношению к польскому государству и следование канонам национальной культуры, приверженность национальным ценностям. Среди поляков, особенно тогдашних, мало кто не согласился бы с мнением Стефана Жеромского, писателя левых взглядов, называемого «национальной совестью». Он написал в 1920 г, комментируя „провал” Временного революционного польского комитета во главе с Юлианем Мархлевским и Феликсом Дзержинским, стремящегося при помощи большевистских штыков получит власть над Польщей: Кто на родную землю, хотя бы грешную и плохую, извечного ворога направил, растоптал ее, разорил, сгорел и ограбил руками чужей солдатни, тот лишил себя отчизны. Не может она быть для него уже никогда домом, ни местом упокоения [12].
В разделах, рассказывающих о послевоенной истории, бросается в глаза тенденция к настойчивому умалению зависимости коммунистической Польши от СССР. Носкова представляет эту зависимость как результат решении большой тройки в Ялте и послевоенного соотношения сил в Европе. Как будто это давало легитимное право для того, чтобы вопреки воли поляков – что автор признает – установить марионеточное правительство и поддерживать его террором, силами НКВД и насчитывающей несколько сот тысяч солдат Северной группой войск с маршалом Рокоссовский во главе. Автор даже преступника Сталина охарактеризовала неоднозначно: Прагматик, обладающий политической интуицией, редким чутьем опасности и допустимых пределов разногласии с партнерами, (...) озабочен в первую очередь сохранением сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции (с. 459).
Стоит отметить, что как Матвеев ссылается на заявления Ленина и других большевитских лидеров, чтобы доказать их мирные намерения, так Парсаданова рассматривает (например с. 390) слова Сталина как выражение его истинных политических замыслов.
Носкова, в противоположность Парсадановой, старается не замалчивать проявления отрицательных явлений после 1944 года. Она пишет и о терроре в Польше, и о советских грабежах польских культурных ценностей. Не скрывает, правда в сноске, что арест шестнадцати руководителей польского подполья был незаконный (с. 440).Также упоминает о чувствах поляков, которые воспринимали ситуацию в 1944/1945 как советскую оккупацию, хотя и менее строгую чем гитлеровскую, но все таки далекую от свободы (с. 449). Вместе с тем автор постоянно стремится создать впечатление, что ситуация в Польше после 1945 года имела много плюсов. Причем автор весьма своеобразно рассматривает такие основные политические понятия как авторитаризм и тоталитаризм. Отмечает, например, что в Польше в 1945-1947 годах присутствовали только «элементы авторитаризма» (с. 539), а ситуация поменялась только потом, когда наступил «тоталитарный по сути режим» (с. 578). На с. 608 читаем наиболее курьезное предложение всей книги – автор, описывая положение католической церкви в сталинской Польше, пишет: неизбежные противоречия в государственно-церковных отношениях должны были принять форму противостояния двух тоталитарных систем – католической и коммунистической (с. 608). Получается, Носкова или совершенно перепутала известное из социологии понятие тотального института и политический и правовой термин тоталитарного государства, или раскрыла свои личные истинные взгляды на христианство как тоталитарную систему. Sapienti fiat est!
Николай Бухарин, автор раздела посвященного 60-м-70-м гг. не скрывает отрицательных сторон Польской Народной Республики: отсутствие политического плюрализма, неэффективность ручного управления экономикой. Однако в целом возникает впечатление, что текст, в значительной степени написан согласно принципу: пусть эти некие минусы не перекрывают плюсов. Обращает внимание большая симпатия автора к Мечиславу Мочару, лидеру националистического и антисемитского крыла ПОРП, то есть Польской объединенной рабочей партии (с. 696). Ещё с большей симпатией Бухарин относится к Эдварду Гереку, о чем может свидетельствовать хотя бы помещенная в книге оценка десятилетней деятельности этого политика на посту первого секретаря с различными данными, касающимися экономической и социальной ситуации в Польше (с. 795).Отсутствует анализ механизмов зависимости Польши от СССР, нет ничего об агентуре, об Организации Варшавского договора, о деморализации партии и общества, о падении культуры труда. Зато представлена обширная история внутреннего соперничества между разными группировками внутри ПОРП. Исследователь, в прочем так же как и Носкова, с большим увлечением цитирует роботы о ПНР Анджея Вербляна – ведущего партийного польского историка, который почти в течение всего периода существования коммунистического режима в Польше занимал видные посты в партии, а с по 1974 по 1981 г. возглавлял Институт основных проблем марксизма-ленинизма. Может создаться впечатление, что кроме него не было польских исследователей, которые занимались бы периодом ПНР.
Последняя глава, написанная Ларисой Лыкошиной - напомним – членом редакционной коллегии, отличается отсутствием стремления оживить просоветскую ностальгию либо желания «защищать» СССР. Однако заметен другой недостаток – автор пропустила многие важнейшие аспекты истории Польши последних тридцати лет и совершила многочисленные фактические ошибки. Она довольно обширно и интересно описала развитие движения «Солидарность» в 1980-81 гг, но совсем не провела анализа риска советской интервенции в Польшу. А это очень важно для оценки введения военного положения в Польше 13 декабря 1981 г. Читатель встречает в книге одно лишь предложение, что это вопрос не имеющий однозначного ответа (с. 827). Напрасно искать информацию о безнадежном экономическом положении в Польше 80-х гг., о настоящем гниении существующей в ПНР системы, которое привело к эмиграции нескольких миллионов предприимчивых, образованных поляков. В тоже время в описании польской действительности после 1989 г. недоумение вызывает внимание, которое автор уделяет анализу польского партийного ландшафта, равно как и односторонность даваемых оценок. Посткоммунисты в лице Союза Левых Сил и экс-президента Александра Квасневского пользуются симпатией, Право и Справедливость во главе с Лехом и Ярославом Качинскими – антипатией. Эта партия заслужила даже определения «большевиков» Третьей Речи Посполитой (сс. 892-893). Отсутствуют источники многих тезисов автора – она часто ограничивается пустыми фразами типа «этого интервью Квасневскому в Польше не простили» (с. 913) или «аналитики говорят» (с. 893). Приводится множество фактов, не сопровождаемых должным анализом, особенно по проведенным в Польше политическим и экономическим реформам, касающимся самоуправления, администрации, системы здравоохранения. Ничего не сказано о подготовке к вступлению в ЕС, принятии acquiscommunutaire. Политика памяти постсоветской Польши, люстрация, декоммунизация представлены весьма отрывочно. Примером увлечения несущественным в ущерб освещения важнейших явлений является обширное изображение деятельности некого Гжегожа Наперальского на посту лидера оппозиционной и притом не самой сильной партии «Союз демократической левицы» [СЛД] (с. 894-896), и только в двух предложениях - представление крупного, политического скандала каким было «дело Олина», то есть публичное обвинения в Сейме в 1995 г. министром внутренных дел премьер-министра Юзефа Олексы в шпионаже в пользу России (с.908).
Также как Носкова путает тотальные институты с тоталитарными структурами, так Лыкошина смешивает политические, культурные и географические деления Европы: Польша не всеми потенциальными партнерами воспринималась как центрально-европейское государство. В строго географическом смысле она таковым и не является: северная часть ее территории принадлежит к Балтийскому региону, а восточные земли граничащие с Украиной и Белоруссией – к восточной Европе (с. 921). Откровенно настораживает констатация, что первый некоммунистический премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, который в 1990 г. соперничал с Лехом Валенсой в президентских выборах, не смог в должной мере использовать админресурс (с. 859). Выходит автор полагает, что демократические политики должны использовать «админресурс». Вина за непринятие Конституции для Европы в 2005 г. приписывается во многом польскому правительству (сс. 917-918), без какого-либо упоминания референдумов во Франции и Бельгии, которые сторонники Договора проиграли.
Фактические ошибки и неточный язык
У Ликошиной, как уже упоминалось, проявляются многочисленные фактические неточности. Непонимание разницы между Европейским Союзом и Советом Европы (sic!, 915-916 сс) является грубой ошибкой, которая способна дисквалифицировать Лыкошину как исследователя современности. Возникает вопрос, насколько точно автор подавала и другую информацию, насколько добросовестно и тщательно она делала анализ. Не исправление в тексте этой ошибки не характеризует положительно также редактора всей книги, проф. Носковую и, конечно, рецензентов.
Ликошина также ошибочно утверждает (с. 847), что польский Sejm имеет две палаты (так было, но до 1795 г.!), хотя фактически действующий парламент состоит из двух палат – Сейма и Сената. Пишущий эти слова ходил в три школы в 90-х годах, но ни в одной из них не существовало обязательности молитв во время уроков – как это утверждает российский исследователь (с. 872), кроме, конечно, уроков религии. Вальдемар Павляк был премьер-министром до 1995 г., а не до марта 1994 r. (с. 872) Александр Квасневский считает себя агностиком, а не атеистом (с. 873). Это не тождественные понятия. Сравнение стройки балтийского газопровода с пактом Риббентроп-Молотов прозвучало действительно из уст Радослава Сикорского, но он тогда был министром обороны, а не иностранных дел (с. 912). Президент Квасневский в 2004 поддерживал не Виктора Ющенко как кандидата в президенты, но принцип честных выборов. (с. 922). Использование сокращенного названия либеральной партии «Союз Свободы» (Unia Wolności), в 90-х годах одной из главных политических сил страны, в виде аббревиатуры «СС», мягко говоря, тенденциозно (с. 877).
Раз начата тема отдельных фактографических ошибок, стоит вспомнить о некоторых, более важных, которые допустили другие авторы. Мазуры (с. 18) никогда не принадлежали Короне (то есть Польскому Королеству), но Пруссии. Название «Верхней Силезии» «польскими землями Германии» (с. 20) совсем не точное – этот регион, в большинстве случаев населенный польскоязычным народом, имел преимущественно немецкие элиты, а до разделов не был частью Польши. Также не было в Речи Посполитой провинции «Восточная Галиция» – это терминология введена австрийской администрацией. (с. 19). До 1772 г. было «руское воеводство» (województwo ruskie). Не знаю, откуда взялось утверждение, что Галиция «польским Пьемонтом» не стала, а истинным центром польской национальной жизни оставалось Польское Царство (с. 19). Не следует забывать, что в Галиции были два университета и свобода слова, в отличии от Польского Царства, особенно после 1863 года. Поэтому в Галиции активно развивалась польская культура. Тяжело понять, зачем делить партии в Галиции на „украинские” i „русинские” (с. 27), если они разделялись на москво- и украинофилов – те последние названы в книге упрощенно «националистами» (с. 59). Неужели автор перепутала понятия «рускости» и «русскости/российскости»? Город Вжесня, где в 1901 г. состоялась известная забастовка польских детей, которые отказались молиться на немецком языке, не был и не является селом (с. 56). Мнение о том, что в конце XIX в. ситуация на политической сцене всех трех частей Польши мало чем отличалась от существующей в странах Западной Европы и США, с той только разницей, что не все ее актеры могли с одинаковой степенью свободы формулировать и пропагандировать разделяющиеся ими ценности оспариваемо. В российской части Польши партии не имели права легально функционировать. Либеральное движение в Польше не было широким, не намного лучше обстояли дела с христианско-демократическом движением и даже с консерваторами. Последние, правда, правили в Галиции, но прежде всего из-за их влияния в Вене и хороших отношений с императором Францом Иосифом. По сути соперничали друг с другом националисты («национальные демократы»), социалисты и аграристы «людовцы» с той разницей, что каждое из этих течений имело иную поддержку в каждой из трех частей Польши.
Автор второго очерка, Булахтин, систематически избегает названия Польшей литовских и руских земель древней Речи Посполитой, применяя тогдашнюю официальную номенклатуру: Западный и Юго-западный край. Польское Царство зачастую определяется как «Привислинский край», хотя это название было только, так сказать, полуофициальное. Иногда встречаются и другие термины, как отошедшая к России часть шляхетской Речи Посполитой. Все это можно бы понять, если бы автор был последовательным. Однако когда он пишет о Галиции, появляется сразу название: политическая жизнь на польских землях Австро-Венгрии (Галиция) (с. 57). Откуда один подход к России, другой к Австрии? Необходимо заметить, что Галиция являлась частью Австрии, а точнее формирования официально называемого «Королевства и края представленные в Государственном совете», а с Венгрией вела в начале XX в. настоящий международно-правовой спор за часть одной, очень красивой долины в Татрах. Булахтин об этих тонкостях ничего не пишет, а Орехов вообще утверждает, якобы Австро-Венгрия существовала в 1848 г. (!) (с. 649).
Не могу согласиться с Матвеевым в том, что так называемая «малая конституция» от февраля 1919 г. учреждала смешанную парламентско-президентскую политическую форму правления (с. 115). Этот правовой акт упразднял разделение властей, подчиняя Начальника Государства (аналог института президента) Сейму и превращая его в исполнителя воли парламента [13]. Пилсудский, разумеется, имел в государстве фактически монопольное влияние и реальную власть, но это случилось не в результате принятия малой конституции, а помимо ее. Кроме того, одновременное исполнение должности Главнокомандующего армией способствовало сохранению Пилсудским огромнейшего влияния. Невозможно согласиться с Матвеевым, полагающим, что Украинская Народная Республика уступила Польше Восточную Галицию и Западную Волынь. Так можно бы утверждать, если бы в международно-правовым и фактическом смысле возглавляемое Симоном Петлюрой государство теми областями владело, или если отождествиться с украинской правовой доктриной. Фактическое и правовое положение дел 1919 г. более точно характеризуется утверждением, что Украинская Народная Республика отказалась от претензий на восточную часть бывшей Галиции и Западную Волынь. Серьёзные возражения вызывают мнение российского исследователя о том, что в 1918 г. среди польских политических сил только национальные демократы не предъявляли претензии к землям Речи Посполитой по состоянию на 1772 г., предлагая проведение границы по линии второго раздела (с. 89). Ведь другие политические силы в подавляющем большинстве тоже не требовали границы с 1772 г….
Не подкреплены доказательствами тезисы о недооценке Пилсудским угрозы, возникшей в результате прихода Гитлера к власти (с. 218). Не могу тоже согласиться с утверждением (с. 238), что принуждение Литвы к установлению дипломатических отношений с Польшей в 1938 г. означало признание Ковном вхождения в состав Польши Виленского края. Литва же не отказалась от своей правовой доктрины, признающей Вильно с окрестностями оккупированной территорией Литвы. Наличие территориального спора не исключает поддерживания дипломатических отношений, о чем свидетельствуют хотя бы российско-японские отношения. В свою очередь с международно-правовой точки зрения, кроме СССР и самой Литвы, никто не оспаривал принадлежности этого региона Польше.
Акция «ревиндыкации» (с. 240), вопреки мнению Матвеева, не касалась принудительного «окатоличивания» православных, но изъятия у православных церквей и их возвращения первичному владельцу, то есть Католической церкви, у которой эти храмы были отобраны после подавления январского восстания 1863 г. Впоследствии она привела к печально известной и требующей однозначного осуждения акции уничтожения православных церквей на Холмщине. Принудительные обращения в католицизм также случались на Волыни. Это было огромнейшее беззаконие, но учитывая доказательства того, что этническую чистку не только на Волыни, но и в восточной части бывшей Галиции хладнокровно запланировала и осуществила УПА, сложно признавать эти события одной из причин Волынской резни. (с. 240). Случаи принудительного обращения в католицизм украинцев как нарушение свободы вероисповедания, без сомнений усиливали их враждебность к полякам, но не могут стать объяснением причин массовых убийств поляков в 1943-1944 г. в юго-восточных воеводствах довоенной Польши. Не понимаю, в конце концов, почему проф. Матвеев считает, что судьба бывшего польского премьер-министра, Леона Козловского, который в 1941 г., после освобождения из советской тюрьмы, перешел линию фронта, является неизвестной (с. 211). Она хорошо известна, а информацию на эту тему можно найти даже в Википедии. Тезис Парсадановой (с. 278) о том, что польские власти хотели капитуляции в первые дни войны, но реализовать это намерение не позволили им западные союзники, не подкрепляется ни одним источником или даже исследованием предмета. Поэтому его нужно признать абсолютно голословном. Впрочем, в самом тексте Парсадановой невозможно найти даже косвенные основания для такого рода предположений.
Ошибочно считать Казимежа Соснковского, одного из лучших польских военных и наиболее проницательных польских политиков, после гибели Сикорского – главнокомандующего польской армией – «известным соперником Пилсудского» (с. 295). На самом деле в течении многих лет он был одном из ближайших товарищей Пилсудского. Доверия и уважения маршала никогда не терял, помимо некоторой дистанции от авторитарных методов маршала после 1926 г. Соснковский также не присоединялся к оппозиции Пилсудскому.
Голословное, пахнущее советской пропагандою утверждение о том, что современники тех событий – Парсаданова имеет в виду агрессию СССР на Польшу в 1939 г. или, процитирую языком ее изложения - «воссоединение с УСРР и БСРР» – единодушно отмечали, что местное украинское, белорусское и особенно еврейское население встречало красноармейцев как родных людей и освободителей (с. 305). Ошибочным также является суждение, что премьер-министр Станислав Миколайчик узнал содержание достигнутых в Тегеране договоренностей через две недели после конференции (с. 363) . На самом деле он узнал о них спустя 10 месяцев, в октябре 1944 г. Не точным является положение о том, что на Холмщине, и вокруг Замостья, Томашова и Ярославля доминировало украинское население (с.374). На самом деле поляков было в целом больше, а украинцы преобладали только в некоторых уездах.
Носкова ошибочно утверждает, что в Ялте была оформлена новая польская государственность (с. 464). Вновь стоит напомнить о том, что Польша, как государство, на протяжении войны все время признавалась мировым сообществом. Носкова также путает польскую Церковь римско-католическую и Церковь польско-католическую (с. 602). Нередко автор противоречит себе самой. Вот, например, в одном месте пишет так: одним из активных «аргументов» [для критиков коммунистической власти – Л.А.] служило якобы засилье приехавших из СССР евреев во власти и прежде всего в польских спецслужбах (с. 494), а несколько дальше она цитирует данные самого НКДА, из которых следует, что как минимум 50% руководящих должностей в Министерстве общественной безопасности заняли евреи, а в некоторых департаментах – даже 100%. (с. 517), а в партии на высших постах было 37% евреев (с. 582). С одной стороны, она пишет о массовой фальсификации результатов референдума в 1946 г. и парламентских выборов в 1947 г. правящими коммунистами, с другой – отмечает, что результат выборов для оппозиционной Польской народной партии, имевшей сильнейшую общественную поддержку, были неблагоприятный (с. 531).
Бухарин не приводит никаких аргументов на подкрепление своих тезисов о неучастии Кароля Войтылы в подготовке письма польских епископов немецким, явившего величайшим жестом примирения с известным «Прощаем и просим прощения». Вся литература и свидетели говорят скорее о противоположном, о соавторстве тогдашнего краковского архиепископа в подготовке текста этого послания. Не имеет подтверждения и странный тезис о неприязни Войтылы к примасу, кардиналу Стефану Вишинскому (с. 692). Автор, приводя разговор Герека с Брежневым, также утверждает, что первый секретарь ПОРП с симпатией отнесся к избранию Кароля Войтылы Римским Папой (с. 789). Нет оснований полагать, что Герек отнёсся к этому событию иначе, чем другие члены коммунистической номенклатуры. «Великое это событие для польского народа, большие проблемы для нас». Молва гласит, что Герек такими словами прокомментировал избрание Войтылы. В свою очередь утверждение (с. 743), что Брежнев – полуполяк и знал польский язык, базирующее на одном донесении французского президента Жискарда д’Эстена, крайне спорно. Памятная смерть студента Станислава Пыяса в книге представлена с точки зрения тогдашней прокуратуры ПНР (с. 781), хотя имеются все основания утверждать, что этот оппозиционный деятель погиб вследствие избиения сотрудниками Службы безопасности. Показательно, что Бухариным очень много места в книге посвящено уходу (1970 г.) Владислава Гомулки с поста руководителя ПОРП, а Лыкошиной очень мало – уходу Герека (1980 г.) и Станислава Кани (1981 г.).
Last but not least, обязательно надо обратить внимание на язык книги. У многих авторов он сухой (Матвеев и Бухарин являются исключениями). У Парсадановой и Носковой к тому же нередко используются обороты характерные для советской историографии. Первая автор пишет, например, о «буржуазно-демократическом парламентаризме» (с. 295). Зато главная редактор труда конфискацию имущества называет «переадресацией права владения собственностью» (с. 432) и часто подчеркивает «объективизм» неких исторических явлений и ситуации. Вот и Польша и СССР после 1945 были «объективно» заинтересованы безопасностью соседа, геополитические интересы обеих государств «объективно» совпадали (с. 439), «объективной причиной» зависимости ПНР от СССР была геополитика и раздел Европы на зоны влияния, а польская интеллигенция в сталинское время принимала «объективную действительность» (с. 588). Носкова отличается склонностью, к замене слова «священник» либо «ксендз» другим термином «служитель церкви» (сс. 601, 604) либо «служитель культа» (с. 604).
Чувствуется, что у книги не было серьезной языковой редакции. Польские фамилии неоднократно транскрибируются непрофессиональным образом, нарушающим российские нормы транскрипции. Так Антони Хруцьцель (Antoni Chruściel) в работе стал Хрущель, хотя же польский генерал фамилии Chruszczel не носил (с. 400, 520). То же самое случилось и с послом Станиславом Цесеком (Cioseк), ставшим в книге Чосеком (с. 838), и с министром Адамом Целкошом (Ciołkosz), которого в книге окрестили Чолкошем (с. 435)[14].
Cвидетельство прошлого и вызовы будущего
Замечания по поводу этого труда можно было бы развивать и продолжать. Думаю, однако, что после прочтения этой рецензии каждый из читателей составит для себя такое мнение об этой книге, которого она заслуживает. Это труд отредактирован недостаточно качественно, во многом концептуально устарел. Допущено множество фактических ошибок, ряд положений являются весьма спорными, некоторые интерпретации нелепы. Этой общей оценки не может изменить в целом весьма интересный раздел о Второй Речи Посполитой, вышедший из-под пера Геннадия Матвеева, с многими ценными размышлениями по поводу Юзефа Пилсудского, его политики и угроз, связанных с намерениями оздоровить государство путем правления сильной рукой. Не изменит моего взгляда также цитирование малоизвестных архивных документов Парсадановой и Носковой, также как и спорные, но склоняющие читателей к рефлексии и доказывающие необходимость углубления исследований суждения, Бухарина по поводу фактических связей СССР и ПНР после 1956 г. Эти отношения, в свете представленных автором выводов, можно бы скорее охарактеризовать как синергию чем эксплуатацию одного государства другим.
Книга под редакцией проф. Альбины Носковой ценна иным. Она предоставляет блестящий материал для анализа того, где лежат проблемы польско-российского исторического диалога, в чем состоят проблемы современной российской историографии, в частности той её части, которая специализируется на проблемах Центральной и Восточной Европы, а также определения ценностей, которые служат ее представителям критериям оценок исторических событий. В работе чувствуется расположение к СССР и привязанность к провозглашавшимся его властями, а таким образом и официальной историографией, интерпретациям и ценностям. В целом весь труд возможно трактовать как драматическую попытку защиты интерпретаций, господствовавших в прошедших десятилетиях, как телеологическую по своему смыслу попытку сохранения положительного смысла коммунистического периода истории Центральной и Восточной Европы. Это попытка трагическая, потому что обречена на провал, по крайней мере в длительной перспективе. Мир живёт в качественно других условиях, слишком радикально меняются ценности в обществе, всё более продуктивен и интенсивен диалог российских историков с их зарубежными коллегами, а самое главное - качественно поменялась методология, подходы к изучению исторических проблем.
Я осознаю, что подобная острая оценка со стороны рецензента может вызвать полемику, а лично историкам задействованным в процесс подготовки этой коллективной работы может стать просто досадно. У меня нет никаких поводов оспаривать искренность выраженной во вступлении декларации авторов, что они любят Польшу: Отдав многие годы профессиональному изучению истории страны, ставшей нам близкой, мы стремились, приводя накопленный конкретно-исторический материал прояснить смысл тех событий, которые вызывают сегодня порой острые дискуссии, влияющие на отношения наших стран. В принципе и сложно было бы элите российских историков-полонистов не любить страны, являющейся предметом их интереса на протяжении уже нескольких десятилетий. Между тем благие намерения, которые, хочется верить, имели авторы работы, в том числе столь необходимая популяризация знаний о польской истории в российском обществе, а также личное знакомство с некоторыми из исследователей, принимающих участие в процессе создания книги, не может освободить от обязанности тщательной проверки работы и соответствующей её результатам комплексной оценки. Не могут также склонить к уходу от полемики приведённые авторами интерпретации. К счастью настало время свободной оценки исторических трудов независимо от места их издания. Могут и должны использоваться единые критерии и общие стандарты. Amici Muscovitae, sed magis amica veritas….
Лукаш Адамский – доктор истории, Центр польско-российского диалога и согласия (Варшава).
1. P. Kostecki, Poezyi, Lwów 1862, с. 1–2.
2. C. Berezowski, Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934, вчастностис. 237–246.
3. D. Nałęcz, Pokój ryski – epizod w stosunkach polsko-rosyjskich, в: Zapomniany pokój. Traktat ryski – interpretacje i kontrowersje 90 lat później, Warszawa 2013, с. 112.
4. G. Nowik, Polsko-rosyjska wojna informacyjna w latach 1918-1920, в: Ibid.
5. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Wrzesień 1939-czerwiec 1941, с. 9.
6. В. Парсаданова, Советско-польские отношения в годы Великой отечественной войны 1941-1945, Москва 1982.
7. См. послание президента Игнация Мосцицкого к нации от 17 сентября 1939 г. где речь идет о «нашествии» одновременно Германии и СССР, Agresja sowiecka na Polkę w świetle dokumentów, t. 1, E. Kozłowski (ред.), Warszawa 1994, с. 169. – это послание изданное в Косове, публиковалось между прочим в Варшаве, в „Kurierze Porannym” от 19. IX. 1939 г., нота протеста правительства от 17 сентября 1939 г., подписанная премьер-министром Фелицианом Славойем-Складковским ibidem, Е. Kozłowski, д. уп., с. 158, нота правительства Польши к правительствам Франции и Великой Британии по поводу агрессии СССР от 17 сентября 1939 r., там же, с. 159, приказ Главнокомандующего, маршала Едварда Рыдза-Смиглого от 20 сентября 1939 г., там же, с. 186, протест правительства Польши от 30 сентября 1939 г. против германско-советского договора о границе и дружбе от 28 сентября 1939 г., содерждавший фразу о двух агрессорах и борьбе против них за освобождение территории государства, там же, с. 240. В радиобращении от 1 марта 1940 г. Владислав Сикорский, премьер-министр и главнокомандующий говорил о войне с СССР: Изменила нам Россия, идущая своими вооруженными силами в помощь немцам, ударяя нас ножьем в спину в обозначенный с ними момент. От того времени мы в состоянии войны с Советами, так же как и с Германией, см. R. Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939 r. t. 2. Dokumenty, Warszawa 1997, с. 20. Так же СССР использовал терминологию, характерную для периода войны, называя расстрелянных без суда польских офицеров «военнопленными».
8. Характерный случай: 30 июня 1941 г. министр иностранных дел Великой Британии, Энтони Иден, вручает Сикорскому ноту, что Великая Британия не признает никаких территориальных изменений, совершенных в Польше после 1939 г., Note issued by the Foreign Office in London on non-recognision of any territorial changes in Poland since August 1939, в: Documents on Polish-Soviet relations…д. уп, с. 142, но того же дня в Палате общин заявил, что это не означает гарантии границ Польши от 1939 г., Statement made in the House of Commons by Mr. Eden concerning the Polish-Soviet Agreement, там же, с. 143–144.
9. См. Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o polsko-radzieckiej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, Dziennik Ustaw, 1947, № 35, poz. 168.
10. Антисоветское настроения польской реакции использовали гитлеровцы для своей новой провокации, так называемого катынского дела. Провокация нацистских оккупантов и реакция на нее польского эмигрантского правительства и его сторонников в стране, подхвативших гитлеровскую фальшивку, вызвала возмущение польского демократического и революционного лагеря, В. Парсаданова, д. уп, с. 119.
11. См.: Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”, Kraków 2011, Władysław, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000.
12. S. Żeromski, Na probostwie w Wyszkowie. Повесть не публиковалась в период ПНР.
13. См.: Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919. № 19. poz. 226.
14. Р. С. Гиляревский, Иностранные имена.

